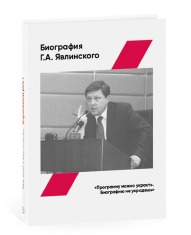Не бойся, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не оглядывайся.
(Финист — ясный сокол, русская народная сказка)
«Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.»
«Судьба» всегда переменяется вдруг. По слову отца родного, по слову государства, которое должно быть вроде бы всем отцом, но судьба переменяется; мужской голос прерывает матушкин: «Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу.»
Вдруг кончается матушкино время: «Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще …», — и начинается отцовское: «Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17… году». С этого все и начинается: с истории, с государства, со службы.
«Пора его в службу.»
Дальше иди один, — как говорит в сказках верный помощник перед самым серьезным испытанием.
«Матушка в слезах наказывала мне беречь свое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.» И слезы эти, конечно, не потому что вместо чаемого блестящего Петербурга ждала его захолустная крепость, а бесконечно жаль прежней жизни: голубей, пенок с матушкиного варенья — свободы, праздности… И хоть и уезжает Петруша осенью — тулуп и шуба — в самый раз. И погребец с чайной посудой, и узлы с булками и пирогами, и слезы — это все живая любовь.
«Старинные люди, мой батюшка.» Так они — любят, так — провожают. Только вот слов о любви нет. В том смысле, как мы привыкли, но есть другие, настоящие, кажущиеся странными для нашего разнеженного слуха, привыкшего к сентиментальности и принимающего именно ее за любовь. У них — другое: «Родители благословили меня. Батюшка сказал мне: Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду.»
Это — настоящая любовь к сыну: отпустить, дав с собой самое главное: и булки с пирогами, и наказ, и благословение. Так важно все это вместе, без разделения на высокие и низкие материи, на быт и бытие.
Путь из дома, описанный еще в сказках, знаком всем: уход — испытания — возвращение. И — почти всегда — ошибки в начале пути. Ошибки и есть начало испытаний.
-Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками.
Дедушка с бабушкой говорят:
-Иди, только смотри от подружек не отставай — не то заблудишься.
Пришли в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька — деревцо за деревцо, кустик за кустик — и ушла далеко-далеко от подружек.
Стала аукаться, стала их звать. А подружки не слышат, не отзываются.
Ходила, ходила Машенька по лесу — совсем заблудилась. («Маша и медведь».)
И никогда этот путь испытаний не представляется легким.
Наоборот, герою известно, что дальше — будет труднее:
…Потемнел лес, страшно стало Марьюшке, боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал:
— Не бойся, Марьюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не оглядывайся.
Потерся кот спинкой и был таков, а Марьюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла, шла Марьюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. («Финист — ясный сокол».)
То, что в сказках отражено метафорически, обобщенно-символически, а потому — страшно: ведь все в жизни предельно важно, все имеет отношение к жизни и смерти, — в жизни может показаться не так страшно, не столь настораживающе. Реальные жизненные опасности представляются легко прощаемыми промахами: мало ли чего не бывает…
Петруша Гринев, как и сказочный герой, первое что сделал, уехав из дома, ослушался родителей: проиграл деньги и нагрубил Савельичу, к которому был привязан едва ли не сильнее, чем к отцу-матери. «…взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают.»
Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел.
…С неспокойной совестью и безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска…»
Первый взрослый опыт приносит «неспокойную совесть и безмолвное раскаяние…»
Сказка лишена этих психологических наблюдений, зато показывает непрерывность цепи поступков : поступил так — случилось то. Время может разделять эти события: долго ли , коротко — но между будто и нет ничего другого, что затемнило бы их обусловленность. Да в большом смысле и в большом времени — и правда ничего нет между причиной и следствием. Поступки героя складываются в непрерывную цепь, для которого никакие отклонения не существенны. Каждый поступок вытекает из предыдущего, связан с ним и одновременно рождает следующий.
Герой выходит в жизнь, взяв с собой свои таланты, которые как правило прирастают в испытаниях. Хотя бывает, что по малодушию бедняга может и променять их, тогда привяжется горе-злочастие, а от него так трудно потом отделаться. Но все же чаще всего ни один решившийся идти до конца, а не заснувший в первую же ночь под яблоней, не остается без награды. Герой проходит — все, как бы страшно ни было. Да и сам страх этот напоминает сон: проснешься — и нет его. Не это ли снится почти сказочному Петруше Гриневу»… Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать им во все стороны. Я хотел бежать… и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах… Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойся, подойди под мое благословение…» Ужас и недоумение овладели мною… И в эту минуту я проснулся…» Внутренняя невозможность переступить то, что дорого. спасает героя. Трудности велики, но одолимы. И потом герой возвращается взрослым человеком, который теперь может иметь свой дом, быть отцом и даже государем — теперь он может быть включен в большую историю, настоящую, мужскую.
Но сказка для современного человека — лишь «намек» на правду, хорошо если будет «уроком». Но ее плотная ткань часто оказывается непроницаемой для взрослого ума. Стало общим местом мнение, будто дети все понимают в сказках. Может, и так. Но, во-первых, детям сказка нужна по другим причинам, «урок» же содержит для «добрых молодцев», а во-вторых, современные дети с их ранним интеллектуальным взрослением, а потому неизбежно искаженным эмоционально-нравственным, часто видят в сказках не больше, чем их родители. Родителям же гораздо проще, удобнее развить в ребенке ум, чтобы как можно скорее сократить разницу между детским и взрослым мировосприятием и не вдаваться в такие отвлеченности, как нравственность, долг, совесть и проч. И вот с самого детства сказка из живой материи превращается в мертвый памятник «народного творчества,» который «надо» знать (несколько самых известных), уважать как часть истории, но вряд ли это все пригодится для повседневной жизни.
Если сказка — это представление о правде, лишенное быта, времени, реального пространства — своеобразная «формула правды», то письменная литература ближе современному восприятию, она больше похожа на реальность, вызывает больше ассоциаций с жизнью.
В этом смысле «Капитанская дочка» — правда настоящая, показывающая настоящую, живую жизнь в наше — исторически — время. Не зря же Гоголь сказал об этой книге, что это не просто самая правда, но как бы и лучше ее.
«Капитанская дочка» , кроме всех прочих смыслов, еще и «энциклопедия » взросления молодого человека. Все, как в сказке: путь из дома — испытания — ошибки — преодоление себя — и начало новой жизни.
В этой книге все «движется любовью», а потому нет жесткой обусловленности событий, но есть прощение, надежда. Есть русское отношение к жизни, когда главное — не просто скрыто в глубине души, но и составляет самую ее ткань, а потому не может быть предметом обсуждения. Любовь, в которой пребывают все герои, проявляется в самых простых вещах: от покорности мужу, когда он «вдруг» переменяет судьбу сына, до естественности смерти вдвоем : «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти мне, коли в чем тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно!»
Герои выходят в жизнь — из таких семей, где обыкновенная будничная жизнь — проявление и доказательство реальности самой высокой нормы бытия. Не об исполнении ли такой нормы сказано: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф., 11, 30). В «Капитанской дочке » — любовь во всех проявлениях, существование которой дает надежду и нам. Пусть не мы по нашему недостоинству, но вот они, почти такие, как мы, они живут как надо. Правда житийной литературы доступна не многим. Слишком пугает высота. Один философствующий писатель сказал, прочитав несколько томов Добротолюбия: «Я понял, мы не спасемся.» «Но недоступная чета меж нами есть.»
У Пушкина — другое. Спасаются же. И не в пустыне, а здесь и сейчас. «Отец мой… в молодости своей служил… и вышел в отставку…» и многое другое так узнаваемо. Жили в любви и согласии, нежили сына, судьба которого «вдруг переменяется».
И из такого дома выход в мир страшен и тяжел. «Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто белым снегом. Солнце садилось… Ветер завыл; сделалась метель». Наступает другое время. Вместо дома — плен жизни. Но -слава Богу! — рядом все — живое присутствие дома: и шубы, и пирожки, и Савельич, и наказ отца. Дитятя обложен домом, любовью, как подушками. Со всем этим можно противостоять жизненной стихии.
Как мы выходим из дому? И куда будем возвращаться? У нас и дома-то часто нет. «Не было ничего, не было!» — мы тоже можем крикнуть так вместе с героиней, для которой дно жизни — единственное обиталище, безысходная подмена дома, а дешевые книжки про роковую страсть — единственно доступное приближение к любви… И тогда для нас, принимающих дно за дом, реальность «Капитанской дочки» станет такой же раздражающей и отталкивающей, как истории про какого-нибудь Рауля или Гастона, рассказанные хохочущим прямо в лицо ночлежникам, в сущности, каким же, как мы сами.
Но выходить в жизнь надо все равно. И со дна тоже. Никто не укутывает в шубы, не крестит на дорожку. Мы входим в жизнь голенькими, в толпе себе подобных, а потому еще более одинокими. И не успеешь выйти, услышав равнодушное: «Годен,» — сразу плен.
История взросления сегодняшнего мальчика лучше всего показана, пожалуй, в кино, которое делает все происходящее близким зрителю и одновременно подчеркивает условность, игру, невзаправдашность происходящего. Не отражается ли в этом вообще отношение современного человека к жизни: да, все понятно, но можно выключить, когда надоест, можно остановить кино, чтобы потом, когда захочется и будет настроение, продолжить. Сторонний взгляд зрителя — не это ли современный взгляд на жизнь?
История кавказского пленника, рассказанная в той или иной форме уже не раз в русской литературе, приобретает еще одну трагическую ноту. Мы — смотрим — эту историю. В этом и заключается доля нашего сопереживания. Как будто все это не про нас.
Герой фильма, современный мальчик, выходит в жизнь из ниоткуда. И сразу — в холодный кафельный коридор, где все такие, одинаковые, раздетые, никому не интересные.
— Годен, — скажет равнодушный врач (оператор, снимавший фильм, тоже своеобразный участник-зритель) и отправит его служить.
— А куда нас служить пошлют?
-Куда родина прикажет.
Эта самая родина и оказывается первым кругом плена, в который попадают современные мальчики, причем это не обязательно может быть армия.
Ни Петруша Гринев, ни его отец ни разу не говорили о «родине». Понятие присяги заменяло понятие родины. Здесь не место вдаваться в историко-социальные корни, почему это было так. Присяга была реальным проявлением любви и верности тому, кому она приносилась. При крещении за младенца крестные родители дают обет верности Богу; при достижении совершеннолетия юноша -сам — подтверждает эту верность Царю Небесному, обещая служить Его земному помазаннику. Присяга соединяет Небесное Отечество и земное, и чувство нравственной высоты не позволяет говорить об этом всуе. Поэтому так внешне суровы слова отца: «Служи верно, кому присягнешь.» Слово присяги — свято, именно потому что соединяет слово человека со Словом, которое есть Бог.
Родина, не связанная с Отечеством Небесным, превращается в ту самую враждебную стихию, которой надо противостоять, чтобы выжить, чтобы сохранить душу живу. Не даром в самом слове «родина» так много земного, плотского, нутряного: родиться, род. В «Отечестве» — только отец, само слово передает иерархичность понятия, родина — скорее, равенство. Показательно еще и то, как постепенно вытеснилось «Отечество» сначала в область малоупотребительной высоко-поэтической лексики, а потом в сферу пафосно-демагогическую, употребляем мы теперь или слово «родина», для важности начиная с заглавной буквы, или безлико — географическое «страна», Последнее, кстати, может быть, наиболее точно соответствует тому, что современный человек вкладывает в обозначение того места, где он родился и живет, добавляя при этом словечко «эта». Может быть и любая другая.
Плен для современного героя начинается с вхождения в «эту страну». Этого нельзя избежать, как нельзя избежать второго рождения во взрослую жизнь — прохождение через узкий коридор. Ни тайны, ни благоговения — поток. Ты как все. Новая жизнь. Новое имя.
-Как тебя звать-то?
-Рядовой Жилин.
И никакой присяги в фильме нет. Начало новой жизни ничем не освящено.
Присяга — принятие нового закона, порядка, новой иерархии, возводящей душу горе, а вместо этого — беспорядочная стрельба, ночные пьянки «отцов-командиров», маскировочно-маскарадное раскрашивание лиц, которое, конечно, ни от чего не спасает. Вот смывание этого боевого раскраса и будет началом освобождения из плена, возвращения к себе.
Сопротивление, которое юноша должен оказать жизни, чтобы остаться человеком, будет состоять в том, что ему нужно вспомнить, сделать реальной ту жизнь, которой мы не видим, которая была до начала его этой жизни (=плена). То ли слишком обычна она была и что о ней говорить, то ли в самой ее обычности есть нечто такое, что проступает потом и дает силы выжить — надо только вспомнить. Вспомнить свое имя, настоящее («Ваня,» — скажет он, смущаясь), истории из детства, вспомнить, что многое умеет делать: и игрушку из дерева (птицу, которая не улетит), и часы пойдут в его руках. И появятся силы жить: и в девочку влюбится, и скажет так несовременно: «Я бы посватался…» И начнется жизнь внутри плена.
Жизненный плен оборачивается кавказским, реализуется в нем. Красота этого мира только подчеркивает его чуждость. Что нам в этой чужой красоте, в чужом небе, горах, непривычных мелодиях.» На реках Вавилонских…»
Простодушному Петруше — буран как предупреждение: «Не бойся, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не оглядывайся. » Как в сказке. Рядовому Жилину красота мира видна из смотровой щели БТРа или из окошка сарая. Много ли увидишь? Его многоопытный «вожатый», которому эта «сторона знакомая, слава Богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек», говорит ему, тянущемуся к окну: » Ну чего ты там увидел.» Ничего. Другую жизнь. Как зерно молотят, скот гонят. Живут.
Оба героя молоды, но одному уже никогда не освободиться из плена. Кажется, он сам решил свою судьбу: «Завербовался сначала, бабки любил, потом в кайф стало.» Привык. «Вдруг судьба моя переменилась» Это только кажется, что сам так решил, просто его плен начался раньше, чем его заковали в тяжелые металлические цепи. Плен как жизнь. И другие так. «У меня с комбатом уже третья война.»
-Служи честно, кому присягнешь.
Кому присягал? — Завербовался. Отношения с жизнью просты: «плюнь да поцелуй ручку», прими ее условия — и «в кайф» будет. Животное нутро позвало.
И скованы они одной цепью. Судьба одного связана — буквально — с судьбой другого. Один был, похоже, таким же, у него тоже есть прошлое, о котором — только вскользь, только когда смерть совсем близко: про детдом, про повариху (данная ему степень уюта, степень дома), про больного сына в Чите. Рядовой Жилин может стать, как прапорщик : » А чего, я тоже воевать научусь.»
-Поздно, Ваня, поздно, — как бы в шутку скажет «вожатый». И все возьмет на себя: «Я тебя отсюда вытащу.»
Если в сказках герой, проходя испытания, поступал так, как должен был, помня завет родителей: не обижать слабых, помогать бедным и проч., то современный, лишенный опоры, дома, становится настоящим человеком благодаря самому плену.
Его прозрение часто стоит слишком дорого. Плен — родина — жизнь — становятся почти равнозначными понятиями.
Самая трагическая сцена в фильме, когда пленники сидят на земле, скованные, не способные двигаться, и поют «и если в поход страна позовет…» И уже не слышно их голосов, видно только искаженное рыданиями лицо старшего, и именно эти рыдания делают его настоящим, таким, какой есть на самом деле, не пленником. И на фоне этого настоящего лица — мощный хор : «На благо мира и труда…» И камера вырывается под облака, выше гор, под самое солнце. Вот он — обман. «Куда родина пошлет». И посылает их куда подальше, и бросает там. Дальше иди один.
Такое взросление, пожалуй, посерьезнее будет кажущихся сегодня жестокими обрядов инициации, когда испытывали огнем, железом и всякими другими страхами. «Ужас и недоумение овладели мною… И в эту минуту я проснулся…»
Герой же , переживший это взросление, никак не может заснуть, чтобы снова увидеть тех, кого полюбил в плену. Они там и остались, в другой жизни. И все путается: плен и свобода, жизнь и смерть. И это наши дети, уходящие из ниоткуда прямо в пасть жизни.
Но есть мать, достающая сына из плена. Ее путь — не искупление ли? Один раз, маленького, достала из колодца. Другой раз — из горного ущелья. Только его уже не засыплешь. Песок другой нужен, и труд — другой. Мать достает сына из плена, искупая и изживая свою вину, свою беспомощность, свои ложные представления.
— Твой сын учитель, я тоже учительница, — говорит она хозяину своего сына.
-Это неважно сейчас, — отвечает он, и понятно, насколько он прав.
Она — хорошая мать. Она смогла спасти сына. А другие как же? Что надо сделать, чтобы спасти всех? А сказка сказывается про одного. У каждого — свой путь.
Если и хорошим едва удается спастись, то как же остальным?
Путь из плена — только один. Надо самому уйти. Захотеть уйти. И тогда даже невозможность ухода станет началом пути. Ваня не сможет уйти, чтобы не подвести Дину. Преодолеет последнее испытание, пойдет на смерть. И потому — уйдет. Есть вещи поважнее просто свободы. Он это понял.
Путь к свободе может указать и вроде бы знакомая песенка, услышанная из собранного неизвестно как радиоприемника и прозвучавшая , как звучит псалом сейчас, по-английски, непонятно, но призывно, приближенный к нашему убогому восприятию, а потому потерявший простоту и глубину — и потому вместо исхода (Lets my people go) — танец в цепях. Но смерть «вожатого» — все так же неизбежна.
Все это даст возможность почувствовать невыносимый и спасительный одновременно голод чужбины. Даже если эта чужбина — заблудившаяся родина. Путь к Отцу, к Небесному Отечеству одинаков и у человека и у бедной земной родины: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.» Встал и пошел к отцу своему».