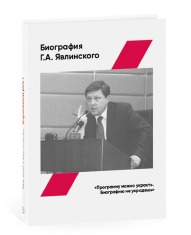Не однажды он менял адреса: Харьков — здесь 19 февраля 1931 года он родился, Кутаиси, Питер, Москва, Нидернхаузен (Германия), подмосковное Переделкино.
Не однажды менял занятия: кадет, юрист, литературный критик, сценарист, прозаик, правозащитник, руководитель (1977-1983) советской группы «Международная амнистия».
Неизменно сохраняя в неприкосновенности порядочность, благородство, честность.
Сегодня Георгию ВЛАДИМОВУ 70 лет. Он лауреат Букеровской премии («Генерал и его армия», 1995), лауреат премии «За честь и достоинство таланта» (1999), присужденной международной общественной организацией писателей «Литературный фонд», и премии А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя».
— Георгий Николаевич, вы давно в Переделкине?
— Год и месяц. Потихонечку перебираемся с дочерью сюда. В Германии еще остались книги, вещи, дела, которые надо уладить.
— С кем вы здесь общаетесь?
— Рядом со мной живут весьма достойные люди: Григорий Поженян, Николай Панченко.
— В 1983 году Белла Ахмадулина посвящает вам свое стихотворение «Друг столб».
В апреля неделю худую, вторую,
Такою тоскою с Оки задувает,
Пойду-ка я через Пачёво в Тарусу.
Там нынче субботу народ затевает.
Помните это стихотворение?
— Нет, я даже не знал, что Белла посвятила мне стихи.
— Тогда позвольте процитировать несколько строк, в которых, по-видимому, речь идет о вполне конкретном событии в вашей жизни:
Вот столб, возглавляющий путь на Пачёво.
Балетным двуножьем упершийся в поле…
Друг столб, погляди, мои прочие други —
вон в той стороне, куда солнце уходит.
Последнего вскоре, при аэродроме,
в объятье на миг у судьбы уворую…
— Апрель 1983-го — это уже сборы в эмиграцию, последний полный месяц жизни в России. Предпрощальное время. Мы часто бывали у Беллы, и она — у нас в то время. Много было стихов, фотографий на память. Мы выехали 26 мая…
— Известно, что эмиграция не входила в ваши планы. Во всяком случае, несмотря на уговоры своих коллег, вы упорно оттягивали отъезд…
— Я ни в коем случае не хотел уезжать из России. Тогда это расставание казалось если не на всю жизнь, то по крайней мере на десяток лет.
Но надо мной висело уголовное дело, статья 170-я — клевета на советский государственный и общественный строй, меня хотели арестовать, судить. Я же был правозащитником, диссидентом, человеком, близким к Сахарову, — много «наклеветал». И когда следователь Александр Георгиевич Губинский, который вел «дело» Леонида Бородина (мы с ним были очень дружны тогда), сказал мне, что скоро на меня выделят отдельное производство и я буду уже не свидетелем, а обвиняемым, а пока у меня есть выбор: либо Запад — я могу уехать, либо Восток, я, в общем, готов был пойти на суд, на процесс. Я этого не боялся. Мне казалось, что на рыболовецком траулере, где я плавал, было страшнее всякой тюрьмы и лагерей. И если бы мне было, скажем, лет 40 и я был бы совершенно физически здоров, то я бы на это пошел. Но мне уже было 52 года, к тому же два инфаркта: один «полноценный», второй врачи успели купировать. В общем, здоровье не то. Поэтому я вынужден был пойти на уступки. Кроме того, нависла угроза над моей женой Натальей Кузнецовой, тоже участницей правозащитного движения, ныне покойной. И Андрей Дмитриевич Сахаров передал мне свои опасения: «Если не арестуют вас, то могут арестовать вашу жену и вернут ее только на аэродроме, такие ситуации бывали в их практике, поэтому прошу вас подумать о том, чтобы все-таки уехать».
И тогда Генрих Бёлль, Лев Копелев и Вилли Брандт предприняли усилия, чтобы пригласить меня на год в Германию.
— Как вы восприняли известие о лишении гражданства?
— С болью. Путь назад был отрезан. К тому же это случилось несколько неожиданно. Буквально через месяц и несколько дней после отъезда в Германию, куда я поехал по приглашению Кёльнского университета читать лекции о русской советской прозе. Тот же следователь говорил мне, что все будет зависеть от моего поведения за границей: «Если вы там точно так же, как в России, будете клеветать на советский строй, вас лишат гражданства». Но прошел вовсе не год, а всего, как я уже сказал, месяц с небольшим, как последовал андроповский указ. Думаю, этот указ был готов еще до моего выезда. Я там еще ничего, собственно, не успел «нахулиганить» или «наклеветать», никаких политических акций с моей стороны не было. Не считая того, что на вопрос, ожидаются ли, по моему мнению, какие-то значительные перемены в России, я ответил, что лет через пять, самое большое — семь они начнутся. Вот и вся моя «клевета».
В 1990 году, когда Горбачев отменил указ Андропова, — тогда, как вы помните, гражданство возвратили сразу двадцати трем соотечественникам, — мне просто некуда было возвратиться. Никакого жилья у меня в России не было. Мою прежнюю кооперативную квартиру на Малой Филевской улице продали какому-то очереднику.
— Вам были принесены извинения, в том числе за моральный ущерб?
— Я получил бумагу из посольства, в которой говорилось, что мы рады сообщить о том, что президент Горбачев отменил указ о лишении гражданства, и приглашаем встретиться в посольстве в удобное для вас время. Когда мы с Львом Копелевым приехали в назначенное для разговора с послом время, самого посла не оказалось: уехал на какие-то переговоры, связанные с выводом советских войск из Германии, и нас принимал его заместитель. И этот заместитель сказал, что в указе Горбачева содержится также и извинение. Но его там, конечно, нет.
— Оно прочитывается между строк…
— Да, прочитывается между строк… И тут я высказал все свои претензии: «Мне некуда возвращаться. У меня нет квартиры». — «Возьмем на заметку, проверим». До сих пор проверяют… И вот год назад председатель международного «Литфонда» Владимир Огнев предоставил мне эти апартаменты в аренду.
— Вернемся в тот же 1983 год, в Германию. Ваше первое тамошнее впечатление? Было ли нечто такое, что вас если не разочаровало, то, во всяком случае, заставило расстаться с какими-то прежними представлениями?
— Во-первых, и тогда, и потом на Западе, и особенно, конечно, в Германии (в Штатах я был всего два раза, может быть, там не так), меня всегда поражали те жесткие рамки, в которых живет человек. В рамках закона, таможенных и налоговых правил. Например, у нас совершенно другая налоговая система. Там нет уверенности в завтрашнем дне, потому что те деньги, которые вы получили за свою работу, это еще не ваши деньги. Вы еще должны предъявить декларацию, и вам скажут, какую сумму у вас вычтут и сколько у вас останется. Во-вторых, законопослушность, боязнь своего начальства. При том что можно ругать президента, большое политическое начальство, своего маленького хозяина — нельзя. То есть в этом смысле мы в России жили гораздо вольнее и смелее даже в те времена, не говоря уже о нынешних.
Кроме того, несколько вызывает неприятие текучесть, скукота, заорганизованность жизни. Есть какие-то локальные события: демонстрации — тогда было много всяких демонстраций против размещения наших ракет и американских «Першингов» в Европе, — митинги-протесты. Но все это не требует проявления гражданской воли, смелости. Потому что любое такое мероприятие организованно, охраняется полицией, чтобы демонстрантов никто не тронул, все уже заранее обговорено и исполняется как некий ритуал.
— Как складывались ваши отношения с коллегами — и немецкими, и соотечественниками?
— С немецкими, кроме как с Генрихом Бёллем, у меня никаких встреч не было. Дом Генриха Бёлля — первый немецкий дом, где я побывал по приезде в Германию. Бёлль приехал за нами на машине в аэропорт.
У него было очень интересно. При всех наших встречах, конечно, присутствовал Копелев как переводчик. К Бёллю мы ездили с ним.
— Вы познакомились с Бёллем, которому посвятили свой рассказ «Не обращайте вниманья, маэстро» (1982), еще в Москве?
— Да, еще в Москве, в квартире Василия Аксенова году в 80-м или, если не ошибаюсь, в 81-м.
— Что вас с ним объединяло? Что помогло найти общий язык?
— Да язык у нас был не очень-то общий. Мы с ним спорили. В то лето 1983 года как раз очень остро стоял вопрос о противодействии двух идеологических систем. Мы тогда сбили несчастный корейский самолет, ушли от переговоров, не захотели убрать из Европы ракеты. В общем, Варшавский блок стоял наготове. Ожидалось вторжение. И у нас с Бёллем по этому поводу был довольно крупный спор с участием, разумеется, Льва Копелева, который выступал не только как переводчик. Бёлль стоял на пацифистской позиции, считал, что новой войны допустить нельзя, что Европа должна все-таки уступить, покориться Советам, еще одной войны она не перенесет, здесь столько культурных памятников, многие из них навсегда погибнут. Спрашиваю его: «А что же вы будете делать?» — «Ничего. Будем сидеть в своих пивных, потягивать пиво. А там пускай их танки грохочут. Нам до этого дела нет». — «А вы никогда не видели такую вывеску «Пива нет»? Она появится сразу, в первые дни, как только здесь будут советские». Вот такого рода споры у нас были.
— А с кем, помимо Льва Копелева, которого уже неоднократно упоминали, вы общались из наших?
— Тогда еще были живы Андрей Синявский, Виктор Некрасов. Были раньше меня выехавший Владимир Войнович, Василий Аксенов, Владимир Максимов с его «Континентом»… Но, понимаете, если раньше, в России, все мы были рядом, в одной Москве, Питере, Киеве, то тут оказались даже на разных континентах.
— Были, наверное, и знакомства с эмигрантами первой, второй волны?
— С первой волной эмиграции мы общались. Это была высококультурная элита, бывшие богачи, князья, графья и т. д. Интеллигентные, даже высокоинтеллигентные люди.
А вторая… Ну, кто там был? Те, кто ушел с немцами. Военнопленные, которые не хотели вернуться, ну и, конечно, страшно отфильтрованные всевозможными чекистами. И найти с ними общий язык, по-моему, никто из нас не мог. Даже с белыми офицерами можно было скорее разговориться, чем с теми, кто служил во власовских войсках или у немцев. Там же многие служили в ведомстве Восточного министерства Альфреда Розенберга, в военной немецкой разведке Абвер. Во-первых, они сохранили ненависть к России и, во-вторых, никакого вольнодумства в этом отношении не допускают. До эмиграции они имели какие-то заводики в России, какое-то наследство в виде земель, при нэпе еще немножко как-то существовали, а потом вынуждены были выехать и только мечтали о том, что, как только падет советская власть, они вернутся и опять будут иметь если не крепостных, то, во всяком случае, батраков.
Со второй волной у меня вышел большой конфликт. Меня пригласили редактировать журнал «Грани», который принадлежит Народно-трудовому союзу (НТС). Проработал у них два с половиной года, выпустил десять номеров. Работать в этом журнале мне было чрезвычайно трудно. В конце концов, как и предполагал Жорес Медведев, мы с ними разошлись, просто разругались вдрызг. И я оттуда ушел.
Помимо прочего, я увидел, что организация НТС чисто бутафорская, она служит как бы связующим звеном между двумя разведками: КГБ и ЦРУ, и там, как у космонавтов в вестибюле — в переходе из одной среды в другую, где давление выравнивается, эти люди встречаются.
Ну и много всевозможной туфты, вранья. Они же живут на американские деньги, поэтому должны доказывать, что у них есть какая-то агентура в России, что какой-то город уже настолько в их власти, что хоть завтра поднимай восстание, что все общество там перестроено их боевыми пятерками, десятками. Заведение напоминало мне контору «Рога и копыта». Конечно, с их стороны это вызывало страх разоблачения. И от меня постарались избавиться, как от человека, который задавал слишком много вопросов и проявил, как они говорили, «неколлегиальность».
Так что мы общались именно со старшими поколениями. Мост был перекинут между первой и третьей волной эмиграции.
— Кому первому вы показывали свои новые вещи?
— Только лишь жене. А так — издателю или переводчику.
— В первый приезд на родину после семи лет разлуки, в мае 1990 года, вы сказали: «Увы, эмигрантская Россия не создала читательской аудитории. И пишешь в пустоту какую-то…» Вы не сгущали краски?
— В общем, такой читательской аудитории, такого дружного читателя, как у нас, там нет. Лишь какие-то отдельные маленькие обособленные очажки.
— С чем это связано?
— Часто причины чисто географические. Вот один какой-то народец существует в Мюнхене при радиостанции «Свобода» (теперь она в Праге), — тогда это был оазис эмиграции. Еще — парижская эмиграция и нью-йоркская. Все это совершенно разные категории читателей и вообще людей. И хотя среди них, конечно, есть люди со сходными вкусами, их, в общем, немного.
Если появится новая книга, то газета «Русская мысль» безусловно откликнется, даст на нее статью. Но вот чтобы нашелся и покупатель, — а самое главное, чтобы ее покупали и читали, — проблематично. Заводить свои библиотеки очень трудно, все бедны, книги дороги, гораздо дороже, чем здесь. Скажем, в России, насколько я знаю, мой роман «Генерал и его армия», когда вышел в 1997 году, стоил 25 рублей, в Германии — 19 марок. Помножьте на 13. Тех, кто может позволить себе купить книгу за такую цену, мало.
— Как «другие берега» повлияли на ваше творчество? Имеет ли для вас значение та точка на карте, где вы работаете?
— Нет, не имеет. Я не собирался быть ни немецким писателем, ни английским. Занимался своей темой, войной, романом «Генерал и его армия». Сначала для меня был соблазн поработать в немецких архивах. Но для этого, во-первых, надо очень хорошо знать немецкий язык, а его я до сих пор как следует не выучил, после 52 лет это уже довольно трудно. К тому же если бы это была англоязычная страна, — а немецкий язык для меня совершенно новый. Во-вторых, там военные архивы в еще худшем состоянии, чем у нас. В подвалах, как мне рассказывали, находятся нераспакованные, неразобранные тюки документов, — как их положили при отступлении, так они и лежат. У нас все-таки есть архив Великой Отечественной войны в Подольске. Конечно, чтобы туда попасть, необходим допуск. Но его, приложив усилия, можно получить. А там — пожалуйста, вход свободен, но разбирайтесь как-то сами.
— Как же вы вышли из этого положения?
— В основном я общался с людьми, которые были в немецком плену, были участниками власовской Русской освободительной армии (РОА). Подробно их обо всем расспрашивал. Они, когда видят интерес, охотно рассказывают.
…Мне было абсолютно безразлично, где работать. Разве что в Германии я был уверен в том, что ко мне не придут с обыском и не отнимут рукопись, что ее не надо прятать, как здесь.
— В заключении речи на встрече старого Нового 1995 года и празднике журнала «Знамя» 13 января 1995 года (переданной по факсу) вы пожелали себе «возвращения». До этого был визит в Москву в мае 1990-го, потом — в конце
1995-го на церемонию вручения Букеровской премии… Простите за бестактность: вы не считаете свое возвращение в Россию поступком опрометчивым?
— Нет. Еще когда грянул август 1991 года, я понял, что надо возвращаться. И если бы было куда, я бы немедленно вернулся еще тогда.
— Разве жить сегодня в России не опасно?
— Опасно, конечно. Но лично я не вступаю в такие корпорации и общества, где возможно преследование. Оно же ведь целенаправленное. Просто так тебя не ухлопают. Криминальные элементы стреляют друг в друга, тех, кто к ним не причастен, не трогают. Разве что в случайной перестрелке на улице. Однажды мы с дочерью попали в такую перестрелку — около районного отделения милиции. Даже не успели испугаться, как все рассеялось.
— Но вы же понимаете, что возвращаетесь в страну, где, позвольте вас процитировать, так «любят переигрывать прошлое» и у власти в очередной раз та же структура…
— КГБ действительно пришло, и, кажется, в б у льших количествах, чем раньше. Но лично для меня они стали безопаснее, потому что пока лишены возможности преследовать за идеологию, за взгляды. Это же было самое страшное для писателя, журналиста, вообще инакомыслящего. Сейчас спецслужбы в основном сосредоточены на экономических преступлениях, убийствах, поджогах и т. д.
— Чего можно ждать хорошего от этих «серых кардиналов»? Судя по тому, что происходит, скажем, с НТВ, в стране будет все хуже и хуже…
— Что касается НТВ, то тут скорее всего какой-то экономический интерес. Им не дает покоя, что чей-то труд оплачивается лучше. Очень часто это конкурентная борьба, которая принимает характер сначала политического доноса, а потом политического преследования.
— И все же откуда уверенность в том, что все, о чем вы писали в уже упоминавшемся рассказе «Не обращайте вниманья, маэстро», не предстоит пережить заново, если не вам лично, то вашим коллегам, друзьям, знакомым?
— Не исключаю, что дойдет и до этого. Какое-то похолодание вполне возможно. И те люди в масках, которые врываются в банки и офисы, потом займутся идеологией. Непременно займутся. Но, думаю, уже не так нагло, как при Брежневе.
Ну, доживем до четвертой оттепели. Все-таки ни одна оттепель — будь то хрущевская, горбачевская или ельцинская — не прошла бесследно. Каждая из них — виток спирали. Какие-то новые и новые завоевания. Все больше и больше свобода отстаивает свои позиции. У каждого поколения, пережившего оттепель, она остается в душе, и они знают, с чего надо начинать в следующий раз и чего они дождутся в следующий раз. В общем, всегда виден выход из туннеля. Все уже понимают, что «сумерки» в России временные, не навсегда.
— Значит, все-таки есть повод возобновить вашу правозащитную деятельность?
— Пока моя правозащитная деятельность — работа в Комиссии по помилованию при президенте. Считаю это занятие очень достойным, интересным — можно многое и узнать, и cделать для тех, кто попал в беду. Если, конечно, эта комиссия сохранится. Потому что она тоже вызывает недовольство. Кажется, сейчас президент намерен переименовать ее в комиссию президента, то есть приблизить к себе. Может быть, это и облегчит нам работу. Потому что, насколько я знаю, наши помилования вызывают большие возражения. Акт помилования подолгу задерживают, не показывают президенту. Допустим, мы сочли возможным освободить какого-то человека, — он отсидел больше половины срока, характеризуется хорошо. Все подобные «дела» о помиловании должны быть собраны в какой-то единый список, который будет представлен президенту, и тот одним росчерком пера освобождает из заключения сразу 50-60 человек. Однако эти бумаги держатся у чиновников по три-четыре месяца. Им же все равно, что человек просидит лишних три-четыре месяца. По этому поводу мы написали письмо на имя Путина, завтра к нам на заседание придет Волошин, будет выслушивать наши претензии. По крайней мере какая-то реорганизация этой комиссии намечается.
Что касается моей прошлой правозащитной деятельности, то сейчас так много людей занимаются такими делами, что мое личное участие здесь уже не обязательно. Но в ноябре 2000 года в речи при присуждении премии имени А. Д. Сахарова я сказал, что, если опять семеро человек выйдут на Красную площадь, я согласен быть восьмым. Поскольку такой вариант вполне возможен.
— Когда вы познакомились с Сахаровым?
— В 1972-м, в год 50-летия образования СССР. Сахаров приготовил обращение в Президиум Верховного Совета СССР об отмене смертной казни и амнистии политзаключенных в честь такой юбилейной даты. Позвонил мне и предложил подписать это письмо. Я приехал к нему часов в восемь вечера и уехал в четыре утра. Сидели, беседовали с ним и Еленой Георгиевной. Тот день — начало нашей дружбы. Потом, когда в 1977 году я вышел из Союза писателей и стал появляться на известных процессах: Александра Гинзбурга в 1978-м, Анатолия Щаранского, мы уже находились с ним вместе, в одной цепи. Ну и, конечно, был среди тех, кого он собирал каждую неделю на своей кухне.
Наверное, я был последним, кто видел Сахарова свободным. В тот день, накануне его ареста, я опять засиделся у него до часу ночи. Когда я приехал домой, мой сосед, социолог, огорошил известием о том, что Сахарова должны арестовать: у них в институте работала жена чекиста, и она то ли проболталась, то ли нарочно сказала, что готовится изъятие Сахарова из Москвы и переселение в город, недоступный для иностранцев, а также лишение его всех наград и что это, по ее словам, не дела Комитета, а требование военных, готовивших вторжение в Афганистан. Дело в том, что когда готовится военный план, то туда включаются какие-то определенные условия, и одно из них было связано с Сахаровым.
Я тут же позвонил Сахарову, но сообщил эту новость не ему самому, а Елене Георгиевне. Андрей Дмитриевич был немножко не от мира сего, а она, мне казалось, более практична. Но вопреки ожиданиям Елена Георгиевна как раз несерьезно отнеслась к этому известию, посчитав его очередной угрозой, которую они слышали уже сотню раз. А он, напротив, сказал: «Нет, кажется, все это очень серьезно» (об этом Сахаров пишет в своей книге).
Я-то надеялся, что он соберет пресс-конференцию и объявит, что ему поступил такой-то сигнал, и, может быть, это возымело бы свое действие — на какое-то время отмело бы от него угрозу ареста. Но, увы, они этого не сделали.
— Как вы думаете, почему?
— Такие угрозы, повторяю, были все время. Привыкли. Нечто подобное в свое время произошло в «Новом мире» с Твардовским. Вот-вот его снимают, во главе журнала он уже последний год. Этот год проходит, наступает новый. Теперь уже этот год будет последним… А когда Твардовского сняли на самом деле, опять же это было неожиданностью. Все уже как-то привыкли, перестали тревожиться, хлопотать, бояться… Так же и с Сахаровым. Тут-то они его и арестовали. Тогда все корреспонденты кинулись в Шереметьево — прошел слух, что Сахарова выдворяют в Вену, как в феврале 1974-го выдворили Солженицына, чему я очень удивился, поскольку знал, что будет какой-то наш, российский город. Вскоре объявили — Горький.
— Разговаривая в ту ночь по телефону, вы же понимали, чем рискуете…
— Ну чем, собственно, я рисковал? Если они сами не держат свои тайны, я вправе болтать о них сколько угодно. Конечно, они затаили злобу. Но повода покарать не было. Это я уже потом за все расплачивался. А тогда, в 1980 году, угроза немедленной расправы еще не нависла. Она появилась в 1982-м, когда 5 февраля пришли с первым обыском.
— К тому времени вы уже возглавляли советскую группу «Международная амнистия»?
— Да, еще с 1977 года, вскоре после выхода из Союза писателей. И руководил этой группой шесть лет, вплоть до выезда. Потом, кажется, она прекратила свою деятельность, а после начала перестройки, уже в горбачевские времена, открылась официально.
Дело в том, что «Международная амнистия» не допускала работы группы в тоталитарной стране. Решено было сделать только одно исключение. Сюда приехал генеральный секретарь «Амнистии», по-моему, его звали Мартин Эванс, он встречался с Сахаровым и другими правозащитниками. И Сахаров заверил его, что постараются — мы боялись инфильтрации со стороны КГБ — не допустить проникновения в группу агентов КГБ. И группу открыли. Сначала председателем советской группы «Международная амнистия» был физик Валентин Турчин. В 1977 году ему наконец разрешили эмигрировать, он давно этого добивался, был здесь без работы. И Турчин указал на меня как на того, кто мог бы его заменить на этом посту. Меня пригласили вступить в эту группу и тут же выбрали ее председателем.
— А 29 января 1980 года выступили с обращением против вторжения советских войск в Афганистан?
— Это был знаменитый 119-й документ Московской инициативной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений, которая пригласила нас принять участие в составлении и подписании этого документа, — мы его сочиняли на квартире Сахарова. Сначала его подписали восемь человек, потом еще трое. Если не ошибаюсь, всего 14.
— В книге «Процесс исключения» Лидия Чуковская достаточно подробно излагает историю вашего выхода из Союза писателей. Что конкретно подтолкнуло вас к этому шагу, став последней каплей?
— Была причина и повод. Причина такая. Тогда к власти над Московской организацией писателей (сначала там был Сергей Смирнов, автор «Брестской крепости», потом он умер, месяца три был Михаил Луконин, тоже умер) пришел Феликс Кузнецов, ныне директор Института мировой литературы, а тогда партийный функционер. Одно время строивший из себя прогрессивного критика, который вступается за инакомыслящих, он мгновенно превратился в их преследователя. Последовала цепь исключений: Владимира Корнилова, Льва Копелева. До этого, в 1974-м, исключили Лидию Чуковскую, Владимира Войновича. Еще раньше, в 1969-м, — Александра Солженицына. В общем, в таком Союзе писателей оставаться было уже нельзя. Надо было показать, что их исключения ничего не значат. Что, после исключения я перестаю быть писателем? Нет, не перестаю, могу обойтись и без них. И, как правильно написала Чуковская в книге «Процесс исключения», такое завершение этого процесса и должно было последовать: кто-то сам снимет с себя цепи и доспехи члена Союза писателей. «Чем же должен кончиться «процесс исключения»? Исключением Союза писателей. Здесь, на нашей земле, это воистину Союз посторонних. Но произойдет это желанное исключение только тогда, когда каждый сам пожелает исключить Союз из своей жизни. Когда каждый писатель поймет, что держаться ему не за членский билет, а за братскую руку. Работать ему не для Союза писателей и не для его органов печати — рупоров лжи, — а работать в литературе во имя спасения обманутых». Тогда «и начнется истинный, естественный, очистительный «процесс исключения».
А повод такой. Норвежское издательство пригласило меня на книжную ярмарку, — норвежская сторона оплачивала дорогу, пребывание в гостинице, обещало даже какой-то гонорар. Для меня это была первая возможность увидеть истинный капиталистический Запад. Нигде, кроме Румынии, Польши и Чехословакии, я не был. И полагал, что после 16-ти лет пребывания в Союзе писателей в конце концов имею право на эту шестидневную поездку. Союз писателей сначала скрыл от меня это приглашение, а когда оно было прислано вторично уже домой, просто не отвечал на мои просьбы оформить выездные документы. И тогда перед открытием ярмарки 10 октября я отправил в Правление Союза писателей СССР свой членский билет № 1471 с письмом. Смешно, но после моего добровольного выхода из Союза писателей они меня еще и формально исключили.
Как и следовало ожидать, через три месяца явился милиционер с вопросом, на какие деньги я живу. «Вы же меня 20 лет знаете. До сих пор об этом не спрашивали. Почему сейчас заинтересовались?» — «Сигналы поступают». В общем, начались мелочные преследования. Но путь назад, конечно, был закрыт, мне оставалось печататься только на Западе и не держать свои рукописи дома, за исключением последних пяти страниц, которые завтра же после изъятия я мог бы восстановить.
— Выходит, все тот же рассказ «Не обращайте вниманья, маэстро» во многом автобиографичен?
— Просто списан с натуры. Слежка, обыски, прослушка, отключение телефона — все так и происходило. И только очень редкие люди продолжали со мной водиться, посещать наш дом. Например, Белла Ахмадулина.
— Кто еще?
— Андрей Битов очень достойно себя вел. Критик Лев Аннинский, Рой Медведев. Более или менее близкие друзья. А в основном это были новые для меня инакомыслящие, диссиденты.
— Одному из ваших героев принадлежат такие слова: «…думаю, что книги немного по-другому читаются, если знаешь, что их автор живет не на Азорских островах». Вы такого же мнения?
— По крайней мере тогда, в 1982-м, я так думал. Но оказалось, что ошибся. Наш читатель воспринял тот поток литературы, который обрушился на него в горбачевскую оттепель, — и те книги, что были написаны здесь, скажем Платонова или Пастернака, и те, что писались за границей, — с одинаковым сочувствием и интересом.
Другое дело, что писатель должен жить в своей стране, болеть ее болезнями, чтобы лучше понимать, чем люди живы, как им помочь, что можно для этого сделать. В общем, жить жизнью своих героев. С самого начала изгнания я не сводил взгляда с России. Постоянно быть в курсе событий помогала радиостанция «Свобода» с ее огромным банком информации, включая всевозможные мониторинги, самые заметные публикации из советской периодики. Все это мне регулярно доставляли по почте. Потом на вокзалах стали свободно продаваться и сами газеты. Буквально каждый вечер что-то показывало немецкое ТВ, которое никогда не теряло интереса к России. Допустим, очень подробно благодаря Си-эн-эн, а также собственным телесъемкам освещались события августа 1991-го, октября 1993-го. Ну и конечно, когда открылась возможность более или менее свободных зарубежных поездок, многое рассказывали приезжавшие наши знакомые: Борис Мессерер, Андрей Битов, Лев Аннинский. Они останавливались у нас обычно на два-три дня, вернее — двое-трое суток: сплошные разговоры, далеко за полночь… Так что я, в общем, продолжал жить российской жизнью. И когда приехал сюда, ничего нового и неожиданного для себя не обнаружил. Россия была для меня очень узнаваема.
— Правда ли, что дух свободомыслия в вас невольно заронил Михаил Зощенко?
— Дух свободы? Сейчас я как раз об этом пишу. Первый кусочек напечатал в «Московских новостях», может быть, он вам попадался. Я учился в Суворовском училище войск МВД в Ленинграде. Это был 1946 год, август месяц. Когда вышло печально знаменитое постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград», мы с другом тут же достали книжку Зощенко, прочитали и были попросту оскорблены: за что такого замечательного, талантливого, смешного писателя так жутко травить, называть «подонком литературы» и т. п.? Это постановление мы восприняли как плевок. Как говорится, плюнули в другого, но брызги долетели до нас, попали нам в лицо.
И мы пошли к Зощенко на квартиру выразить ему свое сочувствие. Решили быть одетыми по форме — черного цвета с голубыми погонами. Но в таком виде мы могли бы напугать либо Зощенко, либо его жену. Прихватили с собой нашу подружку, в которую были влюблены выше фуражек, чтобы она как-то спассировала эту встречу.
Бесследно это не прошло. О визите тут же донесла соседка Зощенко, да и мы сами быстро раскололись по неопытности. Нам грозило не то чтобы исключение, а лагерь, или вообще могли стереть в порошок. Государственное «преступление»! Это же было постановление ЦК ВКП(б). И вдруг в недрах училища, где воспитывали будущих офицеров-чекистов, такой нонсенс! Вот так впервые я ступил на тропу диссидентства. Занимался нашим «делом» сам Абакумов. Топал на наше начальство ногами, требовал, чтобы оно добилось от нас полного раскаяния, отречения. Наконец для нас была придумана такая спасительная формула: якобы мы были у Зощенко до постановления. Если этого не признаем, нам конец. И мы с другом покаянно вынуждены были с этим согласиться. Наша подружка не сдалась. Ее мать, она преподавала английский язык в нашем же училище, уволили. Больше репрессий не было. Но вся эта история, поскольку мы должны были склонить головы, покаяться, врать, подействовала на нас угнетающе и переживалась как незаживающая рана.
— А как вас тогда встретил Зощенко?
— Пригласил войти. Мы выразили ему сочувствие, отдали честь — держали фуражки по форме, как бы приветствовали его, как боевого офицера, от имени армии. Он был в раздавленном состоянии. Вдруг стал нам доказывать, что всегда был за советскую власть, сокрушался, что совершенно не понимает этого постановления, почему на него упала эта кара. Свои книжки, о которых мы его просили, — «Приключения обезьяны» и «Перед восходом солнца», он не дал, сказав, что их у него нет. В общем, разговор у нас как-то не получился. Пробыли у него полчаса.
Мы были весьма разочарованы этой встречей: ожидали увидеть уверенного в себе, по крайней мере твердого человека, мужчину, знали, что он воевал, был очень храбрым офицером, имел Георгиевские кресты.
Нам казалось, что в этих обстоятельствах можно бы держаться тверже. Но потом мы его поняли: все-таки 1946 год, такая глухая сталинщина…
Прошло 45 лет. В 1991 году мне случайно попался журнал «Звезда», где Вениамин Каверин пишет, что Зощенко очень тепло вспоминал об этом эпизоде: пришли мальчики, его приветствовали. Видимо, тогда не так много ходило к нему депутаций. И я понял, что, в общем, не зря все это было. Правда, Каверин, поскольку рассказывает со слов Зощенко, немножко напутал. В книге «Эпилог» он пишет, что к Зощенко «пришли три суворовца с одной девочкой шестнадцати-семнадцати лет». На самом деле, повторяю, нас всего было трое: двое суворовцев и одна девушка, и всем нам было по пятнадцать лет.
Как раз между двумя этими августами — 1946 и 1991 годов — располагается поле автобиографического романа-трилогии «Долог путь до Типперэри». Надеюсь, первая часть, которую сейчас заканчиваю, будет напечатана в этом году в «Знамени» — в более или менее приемлемый объем книги, скажем в 600 страниц, трудно вложить 45 лет жизни. Поэтому я решил взять как бы три дня, имея в виду день в широком смысле, как неделя или месяц, и внимательнейшим образом их рассмотреть.
Вторая часть — это прощание с Россией в 1983 году, с Питером, где до переезда в Москву в январе 1956 года я прожил десять лет: здесь в 1948 году окончил Суворовское училище, потом, в 1953-м, — юридический факультет университета, вскоре начал печататься, первая литературно-критическая публикация появилась в 1954 году в журнале «Театр», главным редактором которого был Николай Погодин.
— Почему вдруг в «Театре»?
— После окончания университета я остался без распределения: в 1952 году по статье 58-10 — антисоветская агитация и пропаганда — была арестована моя мать. Кроме того, было «перепроизводство» юристов. Мне надо было искать какую-то другую работу. Стал писать литературно-критические статьи и посылать их в разные журналы, где их либо отвергали, либо вообще оставляли без ответа. И вдруг из «Театра» доброжелательный отклик на мою статью о пьесе Афанасия Салынского «Опасный спутник». Завязались отношения. Потом я получил письмо от самого Погодина о том, что он очень хотел бы привлечь меня как автора. Та моя первая статья все-таки не пошла, но были напечатаны другие, в частности о пьесе Алексея Арбузова «Годы странствий». Потом поступили приглашения о сотрудничестве от «Литературки», «Нового мира»… Наконец я обрел твердь под ногами, но пока-таки литературно-критическую.
— Заключительная треть романа — эмиграция?
— Да, об этом. А названием стала очень популярная, еще времен первой мировой войны, когда англичане были нашими союзниками, солдатская песня. Когда-то мы с моим другом, тем самым, с которым ходили к Зощенко, два пятнадцатилетних оболтуса, выдумали страну, в которой все было не так, как у нас, и написали утопический роман «Типперэри». В общем, сегодня для меня Типперэри — это символ возвращения на Родину, в Отечество.
— В вашей судьбе немало довольно неожиданных поворотов. Какой из них самый значительный?
— Пожалуй, поездка в 1960 году от «Нового мира» на Курскую магнитную аномалию. Помню, я все рвался на восток — в Сибирь, на Дальний Восток, посмотреть, как живут таежники, как там строятся электростанции. Но Александр Моисеевич Марьямов, очень умный человек, курировавший в «Новом мире» отдел очерков, спросил, где я родился. «В Харькове». — «Так поезжайте — это поблизости от вас — лучше в Белгород или Курск, посмотрите на Курскую магнитную аномалию». И он оказался прав. Я почувствовал родной воздух, это были мои, еще довоенные, места…
Однако очерк о молодых специалистах не задался: я не очень понял свою задачу, что, собственно говоря, должен написать. К тому же эти молодые специалисты вовсе не так скучали по Москве, как мне казалось. Они строили свою жизнь на новом месте и вполне были ею довольны.
Я стал жить в общежитии шоферов, ездить с ними по карьерам. И потом — надо же было оправдать командировку и что-то написать, это решение было для меня значительным моментом, — написал повесть «Большая руда». Неожиданно она встретила одобрение и в 1961 году была напечатана у Твардовского в «Новом мире». Как говорят классики, однажды проснулся знаменитым. По крайней мере о повести очень много писали — более 120 статей и рецензий. Для меня это был какой-то перелом. Журнальный работник, критик и вдруг — прозаик. До «Большой руды» у меня был рассказ «Все мы достойны большего», который бледненько прошел в журнале «Смена», был встречен с пожатием плеч: «Такой рассказ может написать всякий». А когда была напечатана «Большая руда», то говорили уже иначе: «Это не проза критика, это — проза прозаика». То есть родился прозаик все-таки.
— Вообще, как складывались ваши отношения с Твардовским?
— Хотя он и напечатал «Большую руду», сначала отнесся к ней очень недоверчиво. Очень критиковал. Заставил доработать. Я уехал месяца на три в Подмосковье и буквально все переписал. Новый вариант оказался значительно лучше.
Вообще, Твардовский считал, что это какая-то жесткая американская история, что этот парень, Виктор Пронякин, не совсем русский: любит работать, а водку не пьет. «Это не наш русский характер». Но — напечатал.
Затем Твардовский прочитал «Верного Руслана» и даже хотел напечатать. Отметив при этом, что «тема интересная, но не разыгранная, и слишком все это антропоморфично». «Это не собака, а человек под собачьей шкурой». Он же дал посыл: «У пса своя трагедия. А вы из него делаете полицейское дерьмо. Даже обидно». Твардовский умел сказать такое слово, над которым потом долго размышляешь…
— Известно, что рассказ, из которого потом вырос роман «Генерал и его армия», Твардовский «забодал». Почему?
— Все-таки это было слабо написано. «Что ж вы хотите такую тему втиснуть в такую малую форму? Каким гением для этого надо быть! Она для целого романа!» Точно не помню, там было страниц 40-45. Слова Твардовского меня озадачили, и я стал уже подумывать о романе.
«Три минуты молчания» (1969) Твардовский принял очень хорошо. Я бы сказал, даже восторженно. Своим соседям по Пахре, где жил, Тендряковым, сказал: «Иногда думаешь уйти от всех этих дел, от «Нового мира», заняться своими вещами. Но останавливает такая мысль: вот придет парень с таким романом, кто его напечатает, кроме меня?» Вот такие его слова… Твардовский даже считал, что мой герой, морячок Сеня Шалай, — это продолжение Теркина. Он очень многого ждал от меня. Вообще, Твардовский умел и влюбляться в авторов, и разочаровываться в них, как это произошло с Владимиром Тендряковым. Сначала же он очень восторженно воспринял его, а потом буквально выжил из авторов «Нового мира». За ним все-таки стояло тяжелое крестьянское прошлое, раскулачивание, и он никак не мог принять тендряковскую повесть «Не ко двору». Твардовского она сильно покоробила. Он затаил обиду на Тендрякова. И сколько потом тот ни предлагал ему своих вещей, каждый раз под каким-нибудь предлогом они отвергались.
— С чем связана такая большая пауза между публикацией повести и романа в «Новом мире» — соответственно в 1961 и 1969 годах?
— После публикации «Большой руды» меня заинтересовала морская история, и я поехал в Мурманск, — это была длительная командировка от «Литгазеты» и Союза писателей, к тому времени я уже стал членом Союза писателей, поступил на рыболовецкий траулер и проплавал три с половиной месяца, с января до апреля. Из этой зимней экспедиции по трем морям Северной Атлантики — Баренцеву, Норвежскому и Северному — вырос роман «Три минуты молчания».
Потом писал повесть «Верный Руслан» и рассказ «Генерал…». Работал в кино: по моим сценариям было поставлено тогда два фильма — «Большая руда» (1964; режиссер Василий Ордынский) и советско-румынский «Туннель» (1967; режиссер Франчиск Мунтяну). Потихоньку, — шесть лет для меня это даже быстро, — писался роман «Три минуты молчания».
— Как случилось, что вы, новомировский автор, в итоге изменили своему журналу, опубликовав в «Знамени» сначала «Верного Руслана» (1989), потом «Генерала…» (1994)?
— Как раз из-за своей верности. Я, наоборот, очень верен тому органу печати, который меня приютил, впервые напечатал после изгнания. Произошло это так. Главный редактор «Нового мира» Сергей Павлович Залыгин как «посол перестройки» приехал в Париж. Я слушал его выступление дома по радио. Корреспондентка парижского отделения «Свободы» спрашивает у него: «А если к вам в «Новый мир» пришлют свои произведения, скажем, Солженицын или Владимов?» (Она назвала эти две фамилии.) «Ну что ж, если это будет что-то новое, то мы с удовольствием рассмотрим, напечатаем». И тогда, весной 1988 года, я послал в «Новый мир» «Верного Руслана», поскольку считал эту повесть, опубликованную только в «тамиздате», новой для российского читателя. Никакого ответа. В это же время Владимир Войнович отправил в «Новый мир» повесть «Путем взаимной переписки» и получил грубый ответ: «Такая литература нам не нужна». Ну и тому подобное в том же духе. Я решил, что все разговоры о перестройке в Союзе — слова, слова, слова. На самом деле мало что изменилось… Но вдруг в моей эмигрантской Тмутаракани раздается телефонный звонок — Григорий Бакланов говорит, что любит мою повесть и с удовольствием, если я согласен, напечатает в своем журнале. И он таки ее пробил — это требовало некоторой смелости и усилий: по-моему, тогда идеологией занимался Егор Лигачев. «А что у вас следующее?» — «Вот пишу роман…» — «Так мы можем его объявить?» — «Разумеется». Потом, когда Залыгин снова приехал в Париж, он позвонил мне и попросил отдать «Генерала…». «Но я уже обещал его другому изданию». — «Да у нас тираж три миллиона 700 тысяч, а у них только один миллион!» — «Ничего вам сказать не могу, я верен тем, кому обещал». Такую же верность и расположение я сохраняю газете «Московские новости», которая в начале того же 1989 года первой напечатала мое интервью.
К слову, не нынешний «Новый мир», а «Знамя» есть для меня продолжение «Нового мира» Александра Твардовского. На самом деле во главе перестройки стояло именно оно. Что тем более удивительно, поскольку при Кожевникове это был задубелый орган печати, такой реакционный, где вообще могли просто предать человека — продать КГБ рукопись Гроссмана «Жизнь и судьба». С приходом Бакланова я почувствовал, что «запахло» тем «Новым миром», который я знал, где работал, где печатался. Залыгин все-таки не сумел поднять свой журнал на тот уровень. Хотя тираж был огромным, но это во многом благодаря Солженицыну, который продолжал сохранять связь с этим журналом и печатал в нем свои вещи.
И таков был посыл, заданный Баклановым, который правильно выбрал своего преемника и продолжает как бы шефствовать над этим журналом, что и поныне «Знамя» остается в числе первых российских толстых журналов. Знамя, если сказать каламбуром, перешло к нему.
— В литературу ваше поколение вошло как «четвертое». Что это означает?
— Это определение придумали не мы, а, по-моему, Феликс Кузнецов. Тогда он числился среди передовых функционеров, которые понимали, что литературе нужно дать глоток свободы, с тем чтобы она нормально развивалась, и боролся с «перегибами». Дружил с Тарковским, с нами, отверженными. Потом он всех нас, конечно, о чем я уже говорил, предал.
Наверное, «первое» поколение — это те, кто пришел в литературу из еще дореволюционных лет. Скажем, Александр Блок, из прозаиков — Алексей Толстой. «Второе» — те, кто сформировался в годы борьбы за советскую власть, в гражданскую войну. Поколение Шолохова. Сюда же, наверное, можно отнести и Зощенко, и Катаева, писателей этого возраста. «Третье» — рожденное Великой Отечественной войной: Виктор Некрасов, Василь Быков. А мы — «четвертое», «шестидесятники», которые вступили в литературу в конце 50-х — начале 60-х годов.
— Василий Аксенов, Владимир Максимов, Анатолий Кузнецов, Василий Белов — вы пожали бы руку каждому из них?
— Вполне. А почему бы и нет?
— И Белову?
— Ну, Василий Иванович ведь очень талантливый человек, писатель замечательный. Его очень любил Твардовский. Даже хотел повесить его портрет в своем кабинете, но не нашлось фотографии.
А то, что он сегодня говорит: ну мало ли какие глупости бывают! Его роман «Все впереди», — так, по-моему, он называется, — конечно, невозможно читать. У Белова какой-то кризис, что-то не получается. Наверное, уезжать из родной Тимонихи, заниматься политической борьбой, — что всегда сбивает с панталыку, — было большой ошибкой. Надо вести жизнь того же Астафьева. Изредка выступать, но профессионально «речами» не заниматься.
— По-видимому, те времена, когда к писателю обращались с просьбой разъяснить суть вещей, миновали. И ваше десятилетней давности высказывание о том, что литератор в России — «как бы второе правительство, это тот, кого слушают», несколько устарело, не так ли?
— Сейчас литература утратила свою кафедру, с которой она исхитрялась говорить то, что о чем нельзя было сказать открыто. Думаю, это временное явление. Литература сама еще должна освоить те события, которые происходят вокруг. Сейчас очень сложно определиться, выработать свое мнение по этому поводу. Скажем, непонятно, что такое наша капитализация. Надо ли ее приветствовать? Что это за люди — «новые русские»? Всегда ли первоначальный капитал грабительский, нужно ли устраивать передел собственности под лозунгами «Грабь награбленное!», «Верни награбленное!»? По крайней мере, может быть, следующее поколение «новых русских» уже будет вышколено по-европейски и поведет Россию к каким-то новым достижениям. Пока еще ничего не ясно. Во всяком случае, зыбко…
А слушают или не слушают тебя — задумываться не стоит. Надо писать и говорить то, что хочешь. Потому что какая-то «твоя» группа читателей по-прежнему существует. И ей это нужно. Вообще, надо писать для одной тысячи человек. Этого вполне достаточно. Если я знаю, что у меня имеется твердая тысяча читателей, это стоит того, чтобы садиться за стол и писать.
— Пушкин прав: «У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами»?
— Действительно это так. Потребности нет. Но те или иные произведения вдруг совершенно непонятно отчего приобретают какое-то значение. Как, скажем, в ХIХ веке роман Чернышевского «Что делать?», а в наше время — роман Дудинцева «Не хлебом единым», ставший красным знаменем для одних и красной тряпкой для других. Я был хорошо знаком с Владимиром Дудинцевым. Он всегда говорил, что написал этот роман чисто из комсомольских побуждений — просто хотел привлечь внимание к работе изобретателей, и все это уже было в очерках, которые он регулярно печатал в «Комсомольской правде». И вдруг такой эффект и такая ярость! Он сам того не ожидал! Так что нельзя ставить перед собой задачу написать нечто, что станет каким-то знаменем, даже знамением, и все нарасхват будут читать эту вещь, и она произведет в обществе какое-то движение. Это произойдет само по себе. Если произойдет. Специально никакими усилиями этого не добьешься.
— Стиль, в котором вы работаете, вы назвали «старомодным русским реализмом». Что вы имеете в виду?
— «Старомодный» в смысле чисто интеллигентский. Это тот самый реализм, который мог быть понятен и в ХIХ веке, и в начале ХХ. Это реализм прежде всего устаревших, может быть, но устоявшихся форм, в которых отливалась русская литература. Без всяких модерновых выкрутасов авангардной, андерграундной, постмодернистской литературы. То есть когда содержание приносится в угоду любой новизне в форме.
— О чем говорят сии выкрутасы?
— Мне кажется, о том, что авторам просто нечего сказать. Когда есть что сказать, об этом можно сказать очень спокойно, очень доходчиво, просто и понятно. А когда хочется во что бы то ни стало быть писателем, тогда придумываются так называемые «новые формы».
— Вы по-прежнему убеждены в том, что «литература есть одна из форм служения обществу», а писатель обязан за все свои слова, за все им написанное отвечать?
— Да, я по-прежнему так считаю. Хотя это вызывает страшное возражение, раздражение и негодование коллег. Помню, как-то в Германии на «Свободе» был «круглый стол», в котором участвовали наши писатели-эмигранты, и, едва я произнес слова о служении, на меня посыпались всевозможные упреки: «Это рабская психология! Какое служение?! Писатель никому ничего не должен и никому не должен служить!» Потом появилась концепция, согласно которой вся литература протеста — это тот же самый соцреализм, только с обратным знаком, и что, в сущности, антикоммунизм так же противен, как и сам коммунизм. В ответ можно задать только такой вопрос: «Почему же все-таки одним достаются лавры, ордена и награды, а другим — прутья, решетка и голодная жизнь?» Слишком дорого обходится этот «обратный знак».
— Перед кем писатель должен отвечать?
— Прежде всего перед самим собой. То есть самому надо быть убежденным в том, что все это нужно. Кто-то хорошо сказал, что хотел бы написать такую книгу, которую сам бы захотел прочитать. Я часто вспоминаю эту фразу, когда пишу.
— Поясните, пожалуйста: «Без зависти не могла бы родиться великая русская литература».
— Часто зависть — стимул для многих писателей. Одни завидуют богатству, другие — успеху, третьи — таланту. Ну и пытаются соревноваться между собой. Как сказано у американца Вутворда (к сожалению, его романы, очень интересные, мало кто читал), литература — единственная профессия, которая заставляет вступать в активное соревнование с покойниками. Это активное соревнование с покойниками и есть желание перещеголять классика, написать лучше его или по крайней мере встать вровень с ним.
— Если не ошибаюсь, в основе ваших произведений все-таки реальные истории, ситуации, герои. Есть абсолютно вымышленные вещи?
— Ну, может быть, в повести «Верный Руслан» есть придуманные эпизоды. Скажем, сцена с инструктором, который сходит с ума, а собаки его понимают, — это, конечно, плод фантазии. А так я, конечно, стараюсь строить сюжет из каких-то очень реальных вещей.
— Говорят, вы очень неохотно расстаетесь с готовой рукописью. Тот же «Генерал…» был объявлен к публикации в 1990-м, напечатан — в 1994-м, а в окончательной редакции — в 1996-м. С чем это связано?
— С чисто материальными вещами. У меня было написано несколько глав, которые я решил предложить журналу «Знамя». Бакланов сказал, что лучше это назвать романом, поскольку тут сложился такой сюжет, но только обозначить как «журнальный вариант». Я согласился. И получил премию Букера за 1995 год — 12 тысяч долларов, что помогло мне закончить роман, потому что я не должен был писать для заработка ни для станции «Свобода», ни для газет. Мог сосредоточиться и закончить роман. Так что иногда премии играют роль чисто материальную.
— Публикация «Генерала…» стала громким событием не только в литературной, но и в общественно-политической жизни. Причем негодование ваших оппонентов выплескивалось за рамки приличия…
— Роман вызвал различные оценки, эмоции. Многие, знавшие войну и писавшие о ней: Григорий Бакланов, критик В. Кардин, — это фронтовики, поддерживали. А когда я печатал главы за границей — еще Виктор Некрасов, тоже фронтовик, капитан-сапер, прошедший всю войну. Солженицын прислал мне почти восторженное письмо, он тоже фронтовик, артиллерист. А Владимир Богомолов категорически не принимает его. Мне трудно даже сказать, в чем тут дело. Анатолий Рыбаков назвал роман «апологией измены и предательства». Хотя там, в общем, нет оправдания Власову. Есть подробный разбор, попытка разобраться, что это была за фигура и что это была за трагедия. Меня интересовал не столько Власов, сколько власовцы, какие люди пошли с оружием в руках против своих, было желание вникнуть в причины измены и предательства, почему это произошло в России. Никогда же не было такого, чтобы два миллиона соотечественников подняли оружие против своей родины. Некоторые вообще хотели, чтобы эта тема никогда не возникала, была бы закрытой: не нужно ее касаться, это наша рана, об этом лучше забыть.
Причины негативного восприятия романа самые разные. Некоторые — из-за того, что там есть фигура генерала Власова, некоторые — из-за Гудериана и якобы восхваления немецкого генералитета. Но, мне кажется, книга и должна возбуждать споры, иначе, если все согласны, и никакой серьезной проблемы в ней нет.
— Были какие-то угрозы по отношению к вам?
— Да нет, пожалуй. Я был в то время в Германии, а там всего не прочтешь. Ну, если что-то появляется в «Литературной газете», я смогу прочитать, она продается на вокзале. Но если публикация будет в «Московском комсомольце», «Коммерсанте», «Труде» или «Вопросах литературы» — уже не прочту. Там этих изданий нет. Даже фрагмент новой книги Богомолова, опубликованный в «Книжном обозрении» к 50-летию Победы, — «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…», прочитал лишь в октябре. И то лишь потому, что мне привезли вырезку из этой газеты. А так бы я о ней и не узнал.
— После многолетней работы над романом «Генерал и его армия» остались ли для вас «белые пятна» в истории Отечественной войны?
— Думаю, их еще очень много. Знаю только то, что такие книги, как, в частности, у Виктора Суворова, с которым я резко расхожусь во взглядах: дважды — в «Московских новостях» и «Русской мысли» в связи с этим выступал, — появляются там и тогда, где, как говорил товарищ Сталин, существует какая-то недосказанность, какая-то недоговоренность или какие-то скрытые вещи. Вот там и может разгуляться такой автор, как Суворов. Там он себя смелее чувствует.
В юности я написал — надо было зарабатывать деньги — две книги за генералов. Тогда Воениздат объявил серию «Военные мемуары». Каждому генералу, некоторым полковникам и, естественно, маршалам дали возможность высказаться. В общем, это был хитрый ход, чтобы все эти разговоры военачальников канонизировать, ввести в какие-то цензурные рамки. Одно дело генерал у себя на кухне бурчит, что все не так было. Другое — когда ему дают микрофон, перо, — правда, с пером генералы не в ладах, — пожалуйста, говорите. И они говорят именно то, что от них хочет услышать советская пропаганда.
Мне удалось разговорить моего генерала. Он многое рассказал о войне — гораздо больше и интереснее, чем получилось в книге. Так вот, этот генерал сказал мне: «Вся история Великой Отечественной войны есть история преступлений. Но когда-нибудь это вскроется, только никому это не будет интересно и нас с вами на свете не будет». Но вот я, слава Богу, жив, а какие-то вещи все-таки вскрываются.
— По сути, кто главный герой романа — люди или время?
— Трудно сказать. Человек живет во времени, так что кто главнее… Все-таки мера всех вещей — человек. Считается, что мой роман — о генерале Власове. Но это не так. Совсем другой герой и совсем другой прототип. Мне было интересно показать человека той войны, такого, каких сейчас или мало, или совсем не осталось.
— Но вопрос генерала Фотия Ивановича Кобрисова «Что же, мы за Россию будем платить Россией?» звучит так же остро, как и тогда…
— Хотя генерал рассматривает этот вопрос чисто с материальной стороны, — сколько людей он положит за город Мырятин, который ему предстоит взять, — каждый раз он, думаю, имеет все-таки символическое значение. Злободневен и сейчас. Мы действительно теряем и себя, и Россию, когда вступаем в такие войны, как чеченская. И армию потеряли — и не столько даже материально, сколько морально. Разоружили. Или афганская война… Да, это есть расплата целой страной. Мы действительно за Россию платим Россией. За каждую такую авантюру, в которую влезаем по уши, расплачиваемся целой страной…
— Почему, на ваш взгляд, долгожданной свободы не принесла ни Победа в Великой Отечественной войне, ни оттепель 60-х, ни горбачевская, ни раннеельцинская перестройки?
— Разные причины. Сразу после Победы 1945 года началось новое наступление сталинщины, новый этап, совершенно маразматический. Затем была хрущевская оттепель, очень ограниченная. Ее инициатором был человек половинчатый, который хотел высказать только часть правды, у него самого-то руки по локоть в крови были. Горбачев был заинтересован в спасении советской системы — понимал, что надо многое делать, но гласность была ему нужна для сохранения и развития социализма. Больше всего, думаю, сделал Ельцин. Но, как всегда у нас бывает, до конца не довел. Тут и болезни помешали, и семья, и интересы «семьи», и усталость, и какая-то растерянность перед тем, что произошло. Все сказалось…
— Как вы решаете для себя вопрос о роли личности в истории?
— Это самый сложный вопрос. Конечно, личность очень много значит. Но ее-то и выдвигает, призывает история, она как бы говорит: «Вот такой, как ты, сейчас нужен!» Вопрос, кто командует: человек историей или история человеком, сродни вопросу, кто раньше появится: яйцо или курица. Должен был появиться такой человек, как Ельцин, такой, как Горбачев, такой, как, в свое время, Ленин. Помните у Маяковского: «Время нового зовет Стеньку Разина»? Это происходит каждый раз, в особенности в русской истории.
— Почему в ответственные исторические моменты эмоции у нашего народа оказываются выше разума?
— Это же самое интересное в России. Действительно, у нас эмоции «включаются» скорее, чем на Западе. Там, пока не будет просчитано, насколько это будет выгодно, эмоции не взорвутся. А здесь вдруг все влюбляются в Путина. Он еще ничего не сделал! Только сказал, что хорошо бы бандитов замочить в сортире. Потом, когда обещание не исполняется, с той же силой, как влюблялись, разочаровываются.
— Вернемся к литературе. Кто из российских писателей вам интересен?
— Вот был очень интересен роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина. Временами появляются вещи. Трудно сказать, что какой-то писатель сейчас лидирует, но вещи появляются. С интересом читаю Светлану Василенко. Недавно был очень рад прочитать роман критика и литературоведа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Наконец я увидел внятную прозу. Человеку есть что сказать, и он говорит об этом в духе старомодного русского реализма. И как это хорошо, неожиданно, ново для нас!.. Ну вот такие примерно у меня ориентиры.
— И будущее за старомодным реализмом?
— Да, за реализмом. Потому что изображение жизни в формах самой жизни — это вечное направление. Оно никогда не исчезнет. Просто всякий раз будут отходы от этого реализма в сторону, поиски новых форм. Но непременно будет и возвращение к нему. Как показывает история, все эти уходы от реализма все-таки заканчиваются покаянным возвращением к нему. Мне кажется, что сейчас это происходит. Все меньше и меньше интереса к литературе авангардной, андерграундной, модернистской. Думаю, авангардные выкрутасы сыграли злую роль: подписчик отпал от журналов, ему все это надоело, точнее, надоело делать вид, что это ему интересно. Люди не хотят тратить на подписку деньги, которых и так немного. Тиражи оскудели, но 10-11 тысяч все-таки сохраняются, и, думаю, толстые журналы переживут это. Потому что российский толстый журнал — уникальное, наше национальное явление. Запад такой формы не знает. А для нас со времен «Современника» и «Отечественных записок» это добрая традиция. И она, естественно, сохранится.
— Сейчас у вас в России вышло все, что написали?
— В общем, все, за исключением вещей последних лет, — ведь четырехтомник был издан в 1988-м. После этого у меня была только публицистика.