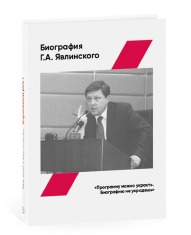Понять и войти в положение друг друга призывает своей исторической работой об отношениях русских и евреев «Двести лет вместе» Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Второй том книги, охватывающий время от революции до середины 70-х, в эти дни появится на прилавках. Накануне писатель принял в своем доме в Троице-Лыкове главного редактора «МН» Виктора ЛОШАКА и ответил на его вопросы.
— Перед выходом первой книги у нас состоялась беседа и было очевидно, что готов второй том и остались буквально недели до его появления. Тем не менее прошло полтора года. Почему затянулся выход?
— Оставались никак не недели, значительно больше. И еще Наталья Дмитриевна (жена писателя и редактор книги. — В. Л.) задумала такую ревизию — все сноски заново пересмотреть по широкому контексту. Это была адова работа, потому что надо было все источники опять доставать, брать эти цитаты и читать вокруг каждой по многу страниц. Вот так она проверяла. А сносок-то — полторы тысячи. Очень большой объем. Да и не единственная это была наша работа в последний год.
— Всего вы занимались двенадцать лет этой работой?
— Начал в 1990 году. Но подолгу прерывался. В 90-е годы я написал и опубликовал много другого.
— Прежде чем перейти ко второй книге, хотел бы сказать, что на первую нашу беседу («Раскаленный вопрос», «МН» N 25 от 26.06.01) пришло много откликов. Одно из мнений, которое встречалось очень часто в письмах: сам факт появления книги об отношениях русских и евреев лишь нагнетает антисемитизм.
— Я должен сказать, что действительно в первом потоке рецензий было много ожесточения, причем по темпам их появления можно было думать, что ожесточение вызвано еще до полного чтения книги, только самим фактом, что я взялся за эту тему.
Теперь, обозревая уже огромное полотно рецензий, включая самые последние, можно, наоборот, сказать: то, что я взялся за книгу, сочтено многими читателями полезным и интересным. От рядовых читателей-евреев я получал благодарности: «Спасибо за вашу интересную книгу, как много мы из нее узнали». Поздние рецензии рассудительны, взвешенны. А в самое последнее время в израильском журнале «Время искать» появилась статья Александра Этермана, глубокая статья, очень меня порадовавшая.
Она прямо-таки то, о чем я мечтал, то есть мое движение найти взаимопонимание — встречено и понято. Протянутая навстречу рука. Необычайно ценная статья, прямое дополнение к моей книге.
Нет, я полностью исключаю, что моя книга послужила каким-нибудь образом развитию напряженных чувств. Наоборот, напряжения оставлены позади и пора спокойным языком спокойно объясняться обо всем.
— Вы приводите в книге цитату из дневников Достоевского, «окончательное слово об этом великом племени впереди». После того как вы поставили точку, у вас появилось ощущение, что это слово сказано и вами?
— Нет, это слишком много взять на себя. Такого ощущения я на себя не беру. Я посильно сказал, что мог, но окончательное слово, если оно вообще возможно, очевидно, еще впереди, еще не нашему времени суждено.
— Правильно ли я понял, что в первых революционных главах второй книги вы раскрываете русские псевдонимы революционеров-евреев и подсчитываете их количество в высших революционных органах, чтобы в последних главах, говоря о необходимости национального покаяния, ясно показать: евреям есть не только за что обижаться на советскую власть, но и за что каяться?
— Совершенно правильно — и то, и другое.
— Вы вводите слово, характеризующее революционную атмосферу, вы говорите, что дело не только в национальном, имея в виду большевиков разных национальностей, но главным образом в безнациональном. Что вы вкладываете в это слово?
— Отсутствие какого-либо национального чувства. Убеждения интернациональные, межнациональные. На этом существовал большевизм очень долгое время. Это и есть отсутствие какого-либо национального чувства. Нет его.
— Вы взялись за тему, в которой сами очень часто апеллируете к таким определениям, как «дух», «сознание», «историческая судьба». Вам, так много работавшему в этой книге с фактами, не мешала эта неконкретика?
— Не только не мешала, она входила существенно в мой замысел. Книга моя направлена на то, чтобы вникнуть в мысли, чувства, психологию евреев, то есть в духовную составляющую. В этом смысле задача моей книги, собственно, не научная, а художественная. Я испытывал работу собственно художественную. Только тут не два-три персонажа, как в романе, а множество персонажей, и с самыми разнообразными чувствами и мыслями. И чтобы в них вникнуть, на конкретике одной не выедешь. Нет, дух и сознание я считаю самым существенным вообще составляющим элементом истории.
— Я заметил, как во втором томе у сдержанного исследователя прорывается писательская страсть. Вот вы пишете о большевиках, о Сталине, и появляются краски и оттенки…
— Совершенно верно. Мне пришлось вообще все время сдерживать писательскую страсть, потому что иначе я нарушил бы правило использования огромного количества цитат. Заплатами не могли быть мои вставки, цветными заплатами, они должны были быть как-то высреднены, сдержанны. В языковом отношении книга была для меня не свободна, но зато у меня богатый психологический урожай.
— Мне показалось, над второй частью вам было работать интереснее.
— Интереснее, согласен. Была просто приближенность — все-таки это уже моя эпоха. Первый том — глубокая история, в которой я не участник. А здесь — участник.
— В книге довольно подробное эссе об Александре Галиче, с обильным цитированием. Почему он вас так задел, ведь исторически фигура Галича не пропорциональна тому месту, которое вы ему уделили? Ощущение, что у вас были какие-то личные споры с Галичем?
— Галича я взял как типичного выразителя целого общественного направления. Опять же это удобнее представить не в общих словах, а на конкретном человеке, на конкретном поэте, с его прямыми строками. Он вошел в книгу не как специально избранный персонаж, а как представитель, символ, воплотитель общественных настроений. Но, конечно, коснувшись его, я не могу не коснуться его личных чувств, того же раскаяния. А личных отношений у нас не было.
— Книга ваша оставила во мне вопрос, который и вы себе задаете: можно ли судить о нации в целом? Если человек родился с записью «русский», «еврей», «казах», обязан ли он дальше всю жизнь отвечать за всю нацию? У вас тоже есть этот вопрос: «Сметь ли судить о нациях в целом?»
— Хотя о нациях в целом практически люди судят — это недостаточно высокий уровень. На ответственном, духовном уровне так судить нельзя. Но для простоты люди судят о любых категориях: «женщины, например, то-то и то-то», — ну как можно сразу о всех женщинах судить? Или: «старики так-то себя ведут», «англичане вот такие-то» — эти суждения просто прагматически у людей употребляются, но они не выдерживают строгого духовного суда.
— Но после второй книги у меня осталось впечатление, что иногда вы склонны говорить о нации вообще?
— Нет, я в целом о нации не сужу. Я всегда различаю разные слои евреев. Вы можете видеть это на протяжении всего второго тома. Одни — те, кто кинулся очертя голову в революцию, а другие — наоборот, пытались удержаться, удержать свою молодежь и самим остаться в традиции. Третьи были работягами огромного военно-промышленного комплекса СССР, просто работягами. И, по-моему, у меня суждений о нации в целом нет. Я считаю, что на высоком духовном уровне такие суждения не дело людей.
— И еще об одном факте. Я никогда не встречал сведений о письме с критикой «еврейских буржуазных националистов», которое сталинский агитпроп вынуждал подписать после начала «дела врачей» видных ученых и деятелей культуры — евреев. Более того, десятки подписей, как вы пишете, уже были собраны. Среди них Ландау, Дунаевский, Гилельс, Ойстрах, Маршак… Однако письмо это не было опубликовано.
— Это письмо в «Правду» не было опубликовано, потому что дело врачей сходило на нет и Берия начал вести свою линию. А опубликовано оно уже сейчас, в 1997 году, в «Источнике» — Вестнике архива Президента России.
— Вы с большой теплотой и уважением пишете о тех семерых, которые вышли на Красную площадь в знак протеста и против вторжения в Чехословакию. Вышли прямо в пасть КГБ. Четверо из них были евреями. На ваш взгляд, это совпадение или, может быть, это были самые обиженные люди? С другой стороны, вы говорите об особой еврейской чуткости к проблемам…
— Не личные обиды, конечно. Чуткость к проблемам. Евреи составляли значительную долю диссидентского движения. И выход этих семерых человек был организован — друг с другом сговаривались, друг друга знали. Тут сказалась и чуткость к общим проблемам, и конкретное состояние в диссидентской среде, из которого родилась эта демонстрация.
— 200 лет вместе. В книге главный посыл вашей огромной работы: правда об отношении русских с евреями нужна нравственно. Кому? Истории? Обеим нациям?
— Человеку всякая правда нравственно нужна. Всякая вообще. Еврейская тема долгое время считалась у нас как бы запретной; это очень ярко высмеивал Жаботинский в комментарии к статье Осоргина: считают, мол, даже, что лучшая услуга, какую могут нам оказать наши русские друзья, это — вообще не говорить о нас вслух. И примерно такое ощущение еще долго сохранялось у советских евреев. Но после того, что кончилось насильственное удержание евреев в СССР или в России, после того, что начался добровольный массовый исход, сейчас как раз-то и наступило время, когда можно свободно на эту тему говорить. Я лично испытывал полную свободу, нестесненность и уверенность, что не причиню евреям какой-нибудь общественный вред. Поэтому меня и удивило такое количество раздраженных, ожесточенных рецензий вначале.
— Для меня, Александр Исаевич, удивительно, что вы вообще читаете рецензии и следите за общим ходом рецензирования.
— Общая окраска у меня осталась в памяти, но персонально каждую рецензию я, конечно, не помню.
— Личный вопрос. А как вы относились, когда вас всякая сволочь кагэбэшная называла «Солженицер» и среди прочей лжи приписывали вам еврейство?
— Я с таким железным хладнокровием относился ко всему, что делал ГБ, какую бы сторону они мне ни шили, то «Солженицер» я, то наоборот — антисемит. Я понимал, что у них просто все клокочет, они уж не знают, за какой камень схватиться.
— У вас есть такая формула, как «кольцо обид». Вы имеете в виду кольцо взаимных обид, которые как бы не дают взглянуть на ситуацию трезво?
— Кольцо, где трудно найти, где начало, а где конец. Кольцо в том смысле, что — замкнутая линия, затрудняющая исследование. С чего, когда начали спор, и как все пошло дальше.
— После того как вы поставили точку на определенном годе, в массовом пользовании появился Интернет, который тоже ведет к определенной ассимиляции, к растворению национального. В мире стремительно возникают новые отношения. Вы их не беретесь оценивать. Но в чем главные, базовые моменты новых отношений, как вы их видите?
— Именно я неслучайно остановился на большом Исходе еврейской эмиграции. Я там пишу в послесловии, что я не сразу нащупал этот рубеж, я представлял себе — от 2-го включения евреев в Россию, 1795, довести бы книгу до середины 90-х годов. Но, во-первых, Исход убедил меня, что 200 лет состоялись уже, и очень точно: в 1772-м первые сто тысяч еврейского населения были включены в Россию, и с 70-х же годов ХХ века, после самолетного процесса уже, — начало прорыва еврейской эмиграции. До середины 90-х годов я просто уже не могу дотянуть прежде всего потому, что историком современности быть невозможно. Очень многие явления происходят за кулисами, не публикуются, их подробности будут известны лет через 20, а то и 50. И значит, писать серьезно и ответственно невозможно.
— Вам невозможно или вы считаете, что в принципе невозможно быть историком сегодня?
— Историком дня сегодняшнего — да, невозможно. Да невозможно и мне — уж я на исходе своих сроков. За Интернетом, прямо скажу, я не слежу, это явление большое, оно будет иметь свои последствия. А ассимиляция — культурный процесс. Так просто схватив идею или развивая ее в том же Интернете, еще не ассимилируешься. Ассимиляцию надо вовнутрь принять, это очень сложный процесс. Я думаю, что он пока нелегко дается в мире. В мире все еще нации имеют значение, весят, разделяются как-то. Но, конечно, процессы интернационализации само собой идут. Как они будут развиваться, я уже не берусь судить.
— Такое есть впечатление, что мир может стать плавильным котлом, где все нации сплавятся, а может быть совершенно наоборот, наступит еще большее обособление в силу экономического разрыва?
— Плавильный котел все же не получится. И обособление будет, вы верно говорите, хотя бы по неизбежному и, теперь уже видно, огромному разрыву благосостояния. Жизненно получается, будто на Земле два биологических вида живут. А что нации не погасятся — это к лучшему. Человечество должно быть разноцветно, не в смысле цвета кожи, а в смысле всех красок восприятия, разноцветья культур. Иначе было бы скучно. Если бы плавильный котел сработал, то стало бы невозможно скучно жить.
— А как вы оцениваете в сегодняшней России накал межнациональных отношений?
— Знаете, при распаде нескольковековой империи, особенно после жестоких коммунистических десятилетий, — очень можно было ждать многих кровопролитных вспышек. И, если помните, на рубеже 90-х страх «югославского варианта» был повсеместным. Бог миловал. И теперь легко забыто, какую бездну обминули. Да, все же настигла чеченская беда. Однако в истоках ее — вовсе не межнациональная вражда, во всяком случае не со стороны русских. Там совсем другие были импульсы и толчки. Но, конечно, всякий межнациональный накал, где бы ни возник, очень опасен, и всегда надо способы искать его избегать или ослаблять.
— В книге многое вокруг Израиля. Но сами же вы и признаете, что не станет он родиной всех евреев, никогда там не будет жить самое большое их количество. Что это — трагедия Израиля или трагедия народа?
— Изучая чувства и мнения евреев, я, естественно, следовал также за теми российскими евреями, которые глубоко восприняли русскую культуру, но уехали в Израиль. Я следовал за ними, я их цитировал, и их жизнь в Израиле меня интересует как продолжение вот этих русско-еврейских отношений. Но я с самого начала в книге своей поставил условие, что я изучаю весь вопрос только в пределах России. А что касается предположений о том, какой выбор сделают евреи, я думаю, что сейчас он уже даже и определился: евреи есть во всех странах по-прежнему, евреи есть и в России, хотя их больше насильственно не держат, они есть в Америке в особенно большой доле, и, конечно, есть в Израиле и будут в Израиле. И такая сложная судьба у еврейского народа остается. И простой она не будет.
— Вы закончили эту книгу. Чем вы занимаетесь или будете заниматься после того, как поставили точку?
— У меня есть неоконченное, и мне надо с ним справиться. И порядочно. Есть что публиковать. Часть публикаций, думаю, будет уже после моей смерти. Ничего же совсем нового я уже не начинаю. Еще у меня есть такая длящаяся работа, как «Литературная коллекция». Я ее частично печатал и еще буду. Я в любой момент могу ее продолжать, а в любой момент и оставить. Она никакой конечной формы не имеет, это просто высказывания по отдельным авторам или даже по отдельным книгам. Это просто мое писательское мнение.
Наталья Дмитриевна при этом, правда, добавила, что уникальность этой вещи состоит в том, что это не писательское мнение, не мнение критика, это мнение читателя, который по случайности судьбы оказался писателем. И очень доброжелательное мнение.
— Итак, вы работали над книгой долго — и наконец поставили точку. Вам полегчало?
— Полегчало. Потому что такая ответственность огромная. На каждой странице, на каждой сноске, в каждом абзаце ответственность. Мысли и чувства евреев, особенно с русской культурой, особенно людей высоко мыслящих, я вошел к ним и почувствовал, как с персонажами художественного произведения, — близость. Но если бы я знал, сколько это труда займет, может быть, я бы и не брался. Я не представлял себе, что это отнимет столько труда.
Послесловие
Возможно, ни за одну из своих книг Александр Исаевич не был так бит критикой, как за «200 лет вместе». Записные антисемиты увидели в первом томе благорасположение к евреям. Критики либеральные разнесли книгу в пух и прах как националистическую, нагнетающую страсти.
Могу предвидеть, что если страсти так кипели по поводу тома, хронологически закончившегося революцией, то уж сейчас, когда писатель доводит свою историю до середины 70-х XX века, громить его будут из критического оружия всех калибров.
Дважды встречаясь после выхода каждого тома с Александром Исаевичем и его женой Натальей Дмитриевной, так много помогающей в исторических изысканиях писателя, хочу заметить, что к труду Солженицына никак нельзя относиться как к очередному сухому полену, вброшенному в костер вечного российского спора, кто виноват, когда в кране нет воды.
У Солженицына другая, не бытовая, точка обзора. Другая, вовсе лишенная писательского тщеславия, задача: Солженицын, вовсе не нуждаясь в нашем одобрении, хочет выступить неким рефери в затянувшемся историческом споре. И его, кажется, даже не волнует, остался ли кто-то на ринге или российские евреи, восприняв язык и культуру, полностью ассимилировались; а антисемиты, за неимением другой работы для своего небогатого ума, будут талдычить свое даже в случае, если на Земле не останется ни одного человека с неприятным им пятым пунктом.
Своей книгой с оценками царей, Хрущева, Берии, Галича, Жаботинского, цитатами от Ленина и Сталина до Григория Померанца и Лидии Корнеевны Чуковской Солженицын вторгся на абсолютно заминированное поле еврейской темы. И спокойно по нему пошел. Может быть, потому, что нет уже мины, которая в состоянии подорвать его авторитет.