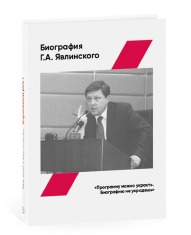Почему оскудела у нас тема военная? От этого вопроса, которым задалась редакция «Знамени» и задала своим авторам, можно бы отделаться старой шуткой: «Отчего верблюд не ест вату? Не любит». Только ведь сердце на этом не успокоится: а почему не любит?
Чтобы не растекаться и ввести дискуссию в предпочтительные рамки, редакция предлагает свои варианты ответа. Потому что обрыдли «заезженность» и полуправда о Великой Отечественной. Потому что отвращает молодых армейская жизнь. Потому что совесть не велит писать, не имея личного военного опыта, «который у Толстого все же был», и т. п. На мой взгляд, ни по отдельности, ни все вместе эти ответы не открывают главной причины.
Начать с того, что никакая «заезженность» не отвратит серьезного писателя, даже напротив, побудит его высказать свое слово. Больше того, ему все предшествующее кажется — да, наверно, и должно казаться — полуправдой, иначе с какой стати ему хвататься за перо? Мало кто помнит, кажется, первую нашу военную повесть, чуть не июля 1941-го, — «Алексей Куликов, боец» Бориса Горбатова. Или «Два бойца» Льва Славина — это по ней сделали фильм, доныне любимый фронтовиками, с «Темной ночью» и «шаландами, полными кефали». Вполне пристойные, без заметных умолчаний и «козьма-крючковщины», Виктору Некрасову они, верно, все же казались полуправдой, как и многие страницы Константина Симонова, однако же и на «Окопах Сталинграда» окопная проза не задержалась, потекли книги Василия Гроссмана, Григория Бакланова, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Вячеслава Кондратьева. И это при том, как нам катастрофически не повезло с осмыслением Великой Отечественной: то 8-летний маразм сталинщины, то хрущевская нервическая «оттепель», то, на десерт, вальяжная брежневиана, в сравнении с которой барственная нега Ильи Ильича Обломова покажется кипучей деятельностью. И разве кончилось? За попытку разобраться в истории с Власовым и РОА вас и сегодня нарекут «литературным власовцем», а роман ваш — «апологией измены и предательства».
Что касается личного военного опыта, этот вопрос однозначен, хотя, как всякое правило, не закрыт от исключений. Моя скромная попытка с «Генералом и его армией» была все же подкреплена и отношением к войне, как личному делу, в котором не довелось участвовать по возрасту, и побегом (не удавшимся, к сожалению) на Сталинградский фронт, и пятью годами учения в суворовском училище, где моими отцами-наставниками были только что выползшие из окопов фронтовики, и писаниями за генералов их осторожных воспоминаний, купно с их откровенными живыми рассказами, — словом, всем тем, что пришло как бы само, без специального чтения и без намерения когда-нибудь что-нибудь написать свое. Вдруг возыметь такое намерение и начать изучать войну, не имея интереса с детства, — наверное, бесполезно. Такой писатель просто не будет знать, что ему изучать. И на каждом шагу подстерегает его какая-нибудь неожиданность. Казалось мне, я неплохо знаю, что есть танк, побывал и внутри «Т-34», и внутри немецкого (трофейного) «Т-III». Но из танковой пушки я все же не стрелял, а это, оказывается, большая морока: после трех-четырех выстрелов башенный стрелок уже кашляет от дыма и не видит цель. Эту подробность нам сообщил фронтовой солдат Виктор Астафьев. Казалось мне, я и пушку достаточно знаю, повидал их и послушал вблизи, но вот не знал, что «параллельный веер» из нескольких орудий можно выстроить с помощью Луны, это мне рассказал кинорежиссер Василий Ордынский, бывший артиллерист. От Григория Бакланова, тоже бывшего артиллериста, почерпнул не менее важную деталь: оказывается, снаряд не просто вкладывают в казенник, а вбивают толчком его медный поясок в нарезы; иначе снаряд не получит вращения, в полете закувыркается и не долетит куда надо. Ни в каких технических описаниях я этого не прочел. Очевидно, изучить можно то, что подлежит правилам, но вся-то прелесть — в отступлениях от правил, иначе вашей прозе грозит превратиться в беллетризованный устав.
И тем не менее… Тем не менее одна из лучших книг о войне — «Алый знак доблести» Стивена Крейна — возникла не из личного опыта. И между прочим, у автора «Войны и мира» его тоже не было. То есть не было опыта 1812 года, был опыт Севастополя и Кавказа, а это уже другое. Ни одна война в истории не походила на другую войну — ни накалом, ни средствами убиения, ни стратегией и тактикой, ни бытом своим, ни — главное — той нематериальной субстанцией, которую Толстой называл «духом армии». Фронтовики 40-х годов что-то не найдут общего языка с «афганцами» и «чеченцами». Знавали ли они, к примеру, такой феномен, чтоб продавались оружие, боеприпасы и амуниция — противнику? В свой черед, и внуки не поймут тех дедушек. И для современного автора давно уже они не герои романов. Статистика говорит, что не пишут о войне (о войнах) люди моложе 60-и — это как раз те, которым не выпало не только что «зажигалки» посбрасывать с крыш, но даже последить за сводками Информбюро, отметить на карте передвижения фронтов. Что же для них — ветераны? Прежде всего, наверно, не слишком привлекательное зрелище. Старые, больные, беззубые, что они еще шамкают про Ельнинский выступ и Курскую дугу? Это же все «времена очаковские и покоренья Крыма». А подумали бы стрезва, что ‘ они отстояли своими подвигами. Ведь после этого были новые пополнения ГУЛАГа, «ждановщина» и борьба с «космополитами», «дело врачей». Коли допустили себя жить при своем фашизме, уж так ли ценно, что защитились от иноземного? Но тогда не понять нам Толстого, в ту пору 35-летнего, по нашим меркам молодого писателя, — нешто он видел других ветеранов? Таких же дряхлых и шамкающих, — ему-то почему было интересно о них писать? Наверное, потому, что есть вещи поважнее личного опыта или, по крайней мере, восполняющие его недостаток. У него было чувство истории, и значит, героику и славу 1812 года не заслонило и не опорочило то, что было потом, не самые благодатные годы николаевской реакции. Его могучее воображение видело тех рамоликов молодыми и полными жизни. И он мог понять, что значит в 19 лет командовать батареей или ротой и принимать на себя всю ответственность за судьбу отечества. И еще он имел способность любить армию и людей армии, и значит, иметь интерес ко всем подробностям армейской жизни, даже и к тому, что «форменные есть отлички, такие выпушки, петлички». Изо всего этого и составляется писатель.
Наш молодой автор, годам к 25-и, еще ничего существенного не испытавший, все же имеет опыт любовный и опыт армейский. Если первый более или менее успешен, то второй зачастую ужасен. Как в страшном сне, он вспоминает постылые будни казармы, униженность подчинения тупым старшинам, вдобавок — мерзость «дедовщины», этого замечательного изобретения военных верхов, имеющего целью превратить солдата в зомби, — к чему это ведет, можно судить по Афгану или Чечне. И вся-то его защита от этих ужасов — спасительная ирония. Если поможет она отгородиться от тягостных реалий и сохранить себя как личность, и то хорошо. Худо, что ироническое отношение невольно переносится на армию1941-1945 годов, то есть совсем другую армию, где тоже хватало мракобесия, но было же и нечто иное — по меньшей мере, то одухотворяющее начало, которое отличает только армию действующую, притом в войне справедливой. И если не интересует писателя та война, гремевшая от Белого моря до Черного, то еще меньше колышет его война периферийная — где-то там в Приднестровье, где-то там на Кавказе (вдали от сочинских пляжей). Разве что личное участие заставит его взяться за перо, но такие случаи единичны и не определяют литературный процесс.
При таких обстоятельствах и могли попользоваться успехом сочинения Виктора Суворова, построенные сплошь на перевертышах. Вы думаете, Гитлер напал «вероломно»? Так нет же, он только упредил неминуемый и отлично подготовленный удар Сталина. Вы полагаете, Сталин обезглавил армию «чистками» 1937-38 годов? Да ничего подобного, только укрепил ее, изгнавши опричников и бездарей. Вы почитаете Манштейна, Роммеля, Гудериана как больших полководцев? Да они мизинца не стоят нашего Опанасенко, не говоря о Рокоссовском, и вообще немцы были дураки. Ну, и так далее. Получается, что и война было не совсем Отечественная, к тому же и не Великая, ведь мы в результате ее закабалили пол-Европы. У меня сейчас нет задачи оспаривать все благоглупости, я это делал в других статьях, а сейчас скажу общее.
Никакой отдельной проблемы военной литературы не существует, она есть часть литературного процесса. И к ней вполне приложимо определение Клаузевица: «продолжение политики иными средствами». Какова эта политика в общем литпроцессе, такова она и по поводу войны. Нынче эту политику определяет падение интереса и пристрастия к литературе социального звучания. Между тем, свою эпопею Толстой писал не на отшибе, но в эпицентре социальных страстей. Царствовали и волновали умы Гоголь, Достоевский, Тургенев, Лесков, революционная критика Герцена, Чернышевского, Писарева. Да и само происхождение «Войны и мира» мы могли бы назвать исполнением соцзаказа, ведь замышлялся роман о декабристах, а в процессе писания обнаружилось, что, пока доберешься до Сенатской площади, не худо бы поподробнее про Бородино. Не на пустом месте возникает желание писать о войне, не из эмоций ностальгического свойства, но из той же «злобы дня», из желания объяснить жизнь сегодняшнюю, сиюминутную. Но — что же может объяснить современный автор, когда он эту жизнь не понимает напрочь? Не понимает этот наш звероватый капитализм, при котором овладела массами идея хорошей жизни, и никакая другая идея. Да и традиции подходящей нет у нас. Это когда же русская литература чтила богатых — притом подозрительно богатых? Это когда же оправдывала наживу любой ценой и опускалась до унылых банальностей, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным? И когда призывала к душевному согласию с властями, сиречь — безмолвствовать? И узаконивала правоту бессовестных, бесстыжих, демонстративно отвергших понятия чести, долга, порядочности, общего блага? И еще полбеды, что занижены критерии нравственности, но мы же постараемся, найдем этой потере оправдание. Как нам, к примеру, относиться к «новым русским»? Сказано Иосифом Бродским: «Ворюга мне милей, чем кровопийца». По мне, так ничуть не милее, но черт их знает, может быть, те, которые что-то там «контролируют», — то есть значит, это себе притырили и оттуда тащат, — может быть, они и выведут Россию на светлый путь — когда надоест воровать? Тут бы и утешиться, что всю Россию не разворуешь, но когда доходит до суицида, и далеко не единичного, то это и значит, что она уже разворована.
Военная тема уходит из наших писаний потому же, почему, скажем, ушла тема трагически любовная. Почему ушли доблесть, честь, самопожертвование, толстовская «скрытая теплота патриотизма». Изгнавши из нашего обихода героическое, зачем нам еще война, где эта ущербность всего нагляднее?
И ведь никакая Маринина столько не причинит ущерба, как те короеды и древоточцы, которые под всякое падение морали подстелют базу эстетическую. В конце концов, нормальная литературная дама, пашет и жнет на своем поле и не рвется в законодатели. Тому, кто захватывает поле чужое, нужно же, чтоб выжить и прокормиться, свои писания объявить новым словом, а литературу традиционную — хламом и прахом, который следует отрясти с ног. Прежде всего, нам хорошо объяснили, что литература нравственного сопротивления — тот же соцреализм, только с обратным знаком. Теория очень удобная, позволяющая не задумываться, во что же обходился этот «обратный знак» авторам пытливым и строптивым. Затем сказали, что слова «служение», «долг», «стремление к правде жизни» — мерехлюндии, которые давно следует выкинуть из лексикона. Писать «как в жизни» — это вчерашний день или прошлогодний снег, требуется что-нибудь этакое, фантазийное, полеты и кульбиты над реальностью. Поговорим, стало быть, о постмодернизме, фрейдизме, дзен-буддизме, о тайнах парапсихологических. Вообще, побаловаться хоцца, расслабиться наконец, может же быть литература просто забавой; вспомним кстати, как Гейне ее называл — «священная игрушка». И, как та крыловская лисица, не дотянувшаяся до винограда, мы уже согласились, что литература и не должна быть властительницей умов, чему-то учить, куда-то вести читателя. Она и в самом деле для нас игрушка, только, увы, не священная. Не литература, а забава. Не смех сквозь слезы — невидимые и очень даже видимые, а зубоскальство и шутовство. Не с такими же инструментами подступаться к теме народного подвига или народной трагедии!
Принято заканчивать на оптимистической ноте, поэтому скажу, надеясь не ошибиться, что художественное исследование Великой Отечественной еще продолжится. Самое значительное событие уходящего ХХ века в жизни России, она еще пошевелит умы наших внуков и побудит к новым поискам, новым выводам и решениям. Кто побывал в подольском архиве Министерства обороны, в хранилищах Белых Столбов, тот знает, сколько там этой самой «терры инкогнита», куда не ступала нога белого человека. Оправдаемся хотя бы тем, что и в архивах немецких полным-полно материалов, не только не разобранных, но даже не распакованных.
А следом придет черед и тех войн, что уже случились и ведутся, и тех, что еще не объявлены. Ведь еще же не вечер, господа, еще воевать нам и воевать!