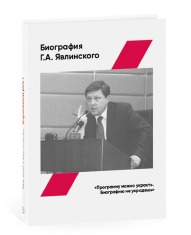Теодор Шанин родился в 1930 году в Вильно в семье раввина, которая была депортирована в Сибирь. Как командос участвовал в создании Государства Израиль. Работал в Индии и Африке. Стал профессором социологии Манчестерского университета и академиком ВАСХНИЛ. Последние 10 лет этот легендарный человек живет и работает в Москве, возглавляя созданную им Московскую высшую школу социальных и экономических наук. В 2002 году королева Великобритании наградила его орденом Британской Империи.
— Теодор, какие события определили вашу судьбу?
— Начинать нужно с детства, которое не сводится к одной драматической точке. Детство у меня было золотым, проходило оно в буржуазно-интеллектуальной семье, где за столом постоянно собиралось общество, обсуждавшее головокружительно широкий спектр проблем — от живописи до политики. Мы жили в Вильно — в ту пору губернском культурном центре Польши. Жизнь начала ломаться с началом Второй мировой войны, мне шел девятый год. Вильно оказалось на территории Литвы, куда пришла Красная Армия. В один момент из буржуев мы превратились в изгоев. Это была первая проверка на прочность, которую я прошел неплохо. Не было ни паники, ни капризов, по-видимому, родители меня хорошо подготовили к испытаниям. Я из семьи, которую в Англии назвали бы пуританской. В этом кругу принадлежность к хорошей семье создавала не привилегии, а обязанности, которые, будучи ребенком, я отчетливо осознавал. В 1941 году нас арестовали, отец попал в лагерь в Свердловской области, а меня с мамой отправили на спецпоселение в Алтайский край. По иронии судьбы это спасло наши жизни. Тем, кто пришел нас арестовывать, понравилась моя четырехлетняя сестра, они с ней даже играли. Надо сказать, что в России даже полицейские имеют особое чувство к детям. Офицер отозвал моего отца и сказал: «Вы едете очень далеко, путь будет тяжелым, многие могут погибнуть. Если у вас есть на кого оставить девочку, то — я ее здесь не видел». Мы оставили ее у деда. В течение месяца после нашего ареста в город вошли немцы, деда и мою сестру расстреляли. Вообще в Вильно в общем гробу оказалось 70 тысяч евреев и 10 тысяч коммунистов, профсоюзников, цыган и т.д.
Начало войны привело к договору Советского Союза с Великобританией о взаимопомощи. Англичане в качестве условия поставили договор советской стороны с польским правительством Сикорского, находившимся в эмиграции в Лондоне. Правительство Сикорского выдвинуло только одно условие: освобождение всех бывших польских граждан. Таким образом, все, кто родился в Вильно до 1939 года, должны были быть отпущены. К концу 1941 года нас начали освобождать, отца выпустили из лагеря в 1942-м. Мы с мамой получили документы, которые ограничивали наш въезд в города первой категории. Мы решили уехать в Самарканд, потому что понимали: эту зиму на Алтае мы не переживем. С конца 1941 по начало 1946-го мы прожили в Самарканде…
После окончания войны мы получили документы польских граждан и приехали в Вильно. Буквально перерыли город, мама не верила, что дед с сестрой погибли, в конце концов нашли людей, которые видели, как их взяли… Мы уехали в Польшу.
К тому моменту я был уже ярым сионистом, это была реакция на то, что произошло с моей семьей. Мне было 15 лет, когда я стал членом сионистской организации и руководителем одного из ее подразделений.
— Такого рода организации подразумевают наличие противника?
— Я был антифашистом, имея в виду и немецкие, и польские его формы.
— А антисоветские настроения были фактором вашей деятельности?
— Нет. Моя семья, как я сказал, была пуританской, обязанности у человека появлялись с пятилетнего возраста, к нему относились как к взрослому. В самаркандский период жизни мы крепко голодали, я позволял себе антисоветские выкрики. Отец мне как-то сказал: «А ты знаешь, что у них бесплатное медицинское обслуживание?! В Польше мне приходилось собирать деньги, чтобы бедняки могли лечиться». Так из меня выбивалась дурь односторонности. Отец мне всегда говорил: «Не ори! Нет простых решений, нет абсолютно правильного и неправильного, всегда есть НО». Это, кстати сказать, позже очень помогло мне в научной работе.
— Ваш антифашистский пафос был связан с желанием создать еврейское государство?
— Именно так. Схема моего мышления была очень простой: массовая гибель евреев была связана с отсутствием у них суверенного государства. Значит, его нужно создать! В Палестине господствуют англичане, с ними нужно побороться или договориться — и все. Тот факт, что там есть еще и арабы, в сферу моих размышлений не попадал. Я активно работал в движении, ощущая свою высокую ответственность. В школе дела мои шли совсем плохо, а потом я решил, что она мне и вовсе не нужна. Но генеральный секретарь нашего движения сказал, что руководитель молодежной секции не может не иметь среднего образования и что я отстраняюсь от должности до того момента, пока не сдам выпускные экзамены. Я их сдал.
Известие о решении ООН создать израильское и арабское государство застало меня во Франции, где в то время был мой отец. Многие радовались, говорили о наступающей счастливой жизни, я же был уверен, что будет война. Скоро моя правота подтвердилась. Через несколько месяцев я нелегально пробрался в Палестину и вошел в подразделение командос. Пришлось скрыть, что мне 17 лет, я выглядел старше, поэтому меня взяли. Год я отвоевал в основном на Иерусалимском фронте.
— Вы не сожалеете об этом периоде?
— Нисколько. Это было счастливое время.
— Но ведь вам приходилось убивать?
— Конечно. В этом деле для меня важны четкие правила. Есть вооруженный противник, или он убьет тебя, или ты его. Был эпизод, когда я чуть не убил нашего солдата. Мы взяли деревню, все мирные жители успели убежать, остался один старик. Солдат его конвоировал, а потом взял и застрелил. Я схватил автомат, уже поднял его к плечу, но на меня набросились мои товарищи. Я был в бешенстве. Вопрос чистоты оружия был для меня чрезвычайно важным.
— Вы и сейчас считаете ту войну праведной?
— Я думаю, это была справедливая война детей, которые не вполне понимали, что они делают. Если бы у нас тогда была фантастическая возможность посмотреть фильм о событиях, которые произойдут через двадцать лет… Наше подразделение называли «Красной армией», это была структура с социалистическими убеждениями. Нас распустили сразу по окончании войны, потому что нас боялись.
— За командос в разных армиях закрепилась репутация свирепых подразделений, вы о своем такого сказать не можете?
— В командос действительно зачастую идут люди, которые хотят поубивать. В Израиле в то время туда пошли лучшие из лучших, те, кто готов был умереть за свои идеи. Это более всего выглядело как идеалистическое молодежное движение.
— Вы верили, что воюете за торжество светлого идеала?
— Мы строили светлое царство, которое будет светлее всех известных царств. Думали: наш народ прошел через такие страшные испытания, что сможет его построить для всех — не только для себя.
— А вам не приходило в голову, что народ страдал от одних сил, а за светлое царство он воюет с другими?
— Приходило. Помню, во время боя за Иерусалим, который оказался переломным моментом в войне, я сказал своему товарищу: «Вот идиотизм: я ненавижу немцев, а воюю с арабами!» Иронию судьбы я понимал, к восемнадцати годам я был достаточно развит в политическом отношении.
— Как вы восприняли победу? Она была для вас сладостной?
— Конечно. Я был уверен, что теперь мы договоримся с арабами. После решения ООН войну начали они, для меня было совершенно ясно, где агрессор, а где защищающийся. После того как они перешли границу, нужно было их побить. Но побить ради того, чтобы договориться. До 1967 года это было общее настроение большинства израильтян.
После завершения войны я поехал в Иерусалим и поступил в университет — у меня было право на стипендию такой же продолжительности, как и пребывание на фронте, то есть на год. Стал изучать социологию и философию, но все это было на уровне курсов «Введение в философию», «Введение в социологию» и т.д. Скучно. Как-то увидел объявление, что производится набор в школу социальных работников, в частности по специальности «Криминальное поведение молодежи». Мне это показалось интересным, я поступил в школу, несмотря на то что туда принимали людей, достигших 20-летнего возраста. Мне не было и 19, но помогла моя военная форма со знаком командос.
По окончании школы я стал работать в бедных районах Иерусалима и испытал шок… Я увидел людей, которые даже не знали, за что мы воевали. Я их защищал, я их спасал, а им это было не нужно! Они просто хотели, чтобы их существование хоть немного улучшилось. И все! Для меня как для националиста это был удар! Я все глубже забирался в бедные районы, активно работал. Но когда я выходил из них, на расстоянии 150 метров оказывались кофейни, в которых сидели дамочки с бриллиантами на руках и в меховых шубах — несмотря на жару, таким образом они демонстрировали свое богатство. Плюс к этому я видел, что многие из моих товарищей, с которыми мы вместе воевали, оказались безработными. Параллельно с работой я стал активистом социалистического движения.
Меня по работе послали в Англию для подготовки отчета по проблемам реабилитации инвалидов, появилась возможность познакомиться со страной. Мне несколько раз предлагали там стипендию по социологии, но я отказался, потому что считал своей обязанностью вернуться к социальной работе в Израиле. По возвращении у меня возник конфликт с Министерством труда, в знак протеста я ушел с работы. Тут и вспомнил о предложениях, полученных в Англии. Послал свою заявку в Бирмингемский университет, на которую удивительно быстро получил положительный ответ. В Англии для меня настал новый период. Я начал работать над диссертацией. Мне предлагали писать что-то о социальной защите, а я хотел для интеллектуального отдыха уйти как можно дальше от моей предыдущей работы и стал заниматься русским крестьянством в период революции. Тема крестьянства была практически неизученной, в историях разных стран она попадала в лучшем случае в сноски. Один профессор сказал обо мне: «У него странная способность выходить на эзотеричные темы». Представляете: изучение половины человечества — эзотеричная тема!
Значения крестьянства в англо-саксонских странах не понимали, для них эта тема была неактуальной. Но тут — вьетнамская война, в Китае коммунисты пришли к власти, опираясь на крестьян, многие не понимали, что происходит в мире, потому что совершенно не учитывали крестьянство. В этих условиях я стал одним из трех ученых, которые начали создание западного крестьяноведения: один жил в Америке, другой — в Польше, и я — в Англии. Моя книга «Неудобный класс» встретила бурный отклик, я быстро вышел в интеллектуальные герои и стал профессором.
— А как вы для себя решали проблему родины?
— Я собирался возвращаться в Израиль. Началась война 1967 года, мне друзья стали писать, чтобы я скорее приезжал. Я сдал в печать еще две книги и в 1970 году выехал в Израиль. Там я оказался в оппозиции. Преподавал в университете в Хайфе и делал все, что мог, чтобы остановить оккупацию по принципу «территории за мир». Видя свое бессилие и всю чудовищность происходящего, по прошествии трех лет я принял решение уехать. Я сказал, что не хочу жить в аналоге тогдашней ЮАР. Я у Израиля не брал ничего, а отдавал ему все, что создавало моральное право выбора.
Возник вопрос: куда ехать? Моего Вильно больше не существует, оставалась Англия. Мне повезло, я попал в Оксфорд, а после был избран профессором Манчестерского университета. Несмотря на то что я заведовал кафедрой, я имел возможность ездить по всему миру с исследовательскими целями — ведь в Англии крестьянства нет.
— Вам, наверное, приходилось отвечать себе на вопрос: какой страны я гражданин?
— В этом смысле гражданство — чушь! Мне недавно мои студенты задали вопрос: «Все, что вы делаете в России, связано с тем, что вы ее любите?» Мой ответ был: «Я люблю Россию, но я не однолюб».
— Что в основе вашей любви к России?
— Русская культура, которая в немалой мере сделала меня тем, кто я есть. К тому же могу сказать, что Россию в какой-то степени я знаю лучше, чем русские. Большинство россиян — крестьяне, дети и внуки крестьян, многие из которых не знают о своих корнях. В Америке я себя хорошо чувствую в университетской среде, но не могу сказать, что я понимаю жизнь американского народа лучше, чем сами американцы.
— Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Израиле?
— Самое главное, что там заложена отрицательная динамика, которая, кстати, может многому научить другие страны, в том числе и Россию. Когда в 1967 году состоялась большая оккупация, оппозиция, к которой принадлежал и я, доказывала, что оккупация создаст жесткую логику самозащиты и самооправдания: по-другому нельзя, потому что это спасение своей страны и своей семьи, а арабское сопротивление дает все новые подтверждения этой позиции. Возникает замкнутый круг. Когда-то Энгельс сказал, что народ, оккупирующий другой народ, не может быть свободным. Я никогда не считал Энгельса великим мыслителем, но в данном случае он ухватил суть проблемы. Новости из сегодняшнего Израиля ужасны, но еще больший ужас заключается в том, что ситуация будет продолжать раскручиваться в негативном направлении.
— И каким мог бы быть выход?
— Создание двух государств, выполнение обязательства, взятого на себя израильтянами при обретении независимости, — тогда было обещано протянуть руку арабским соседям и признать их равные права.
— Ваша позиция непатриотична?
— Она единственно патриотическая, но она ненационалистическая. В рамках господствующей в Израиле логики для многих я — предатель. В свое время мне очень редко бросали в лицо такое обвинение только потому, что на рубашке у меня был знак командос, он превращал человека чуть ли не в святого. Ицхак Рабин тоже вышел из командос, проделал ту же эволюцию, что и я, и встал на позицию умиротворения. Его убил еврей. Убийство удалось, потому что личная охрана Рабина была недостаточно бдительной: никто не верил, что есть опасность с еврейской стороны. Если бы он остался жив, история Израиля могла бы пойти по другому пути. Интересно, что убийца сидит в тюрьме, хотя и звучат призывы к его освобождению, но тот раввин, который был его учителем, не наказан, он продолжает выступать с такими же проповедями.
— Чему могла бы научиться Россия, глядя на негативный опыт Израиля?
— Главный урок — в учете динамики. Если отношения между народами не улучшаются, они начинают ухудшаться. Если неустанно не работать над тем, чтобы перебороть националистические тенденции у собственного народа, происходит автоматическое раскручивание контрнационализма у этнических соседей. После создания израильского государства многие говорили: конечно, есть трудности и конфликты, но со временем они как-то разрешатся. Но время само по себе не лечит, а только усугубляет трудности!
— Сейчас расхожей стала формула: XXI век — век терроризма…
— Стремление к истине — сущность моей профессии. Ложь возникает не только тогда, когда люди говорят неправду, но и когда слова сплетаются таким образом, что правда исчезает. Террор сеет страх. Происходящее в Чечне — это не террор, это война. Там есть две вооруженные противоборствующие стороны, одна из которых при поддержке подавляющей части населения ведет партизанскую войну. Разговоры о терроре распространились под влиянием США, это позволяет закрыть рты тем, кто не согласен с их политикой. События 11 сентября — безусловно, террор, но война в Афганистане ни по каким меркам не подходит под это определение. Теперь любая борьба за независимость становится террором. Словесность вокруг проблемы террора в большинстве своем неправдива, возникла она вовсе не для того, чтобы с террором бороться. В этом мире всегда будут случаи вооруженной борьбы — справедливой и несправедливой, обзывая все их террором, ты теряешь способность понять, что происходит.
— То есть теракты последнего времени вы рассматриваете как следствие войн?
— Не только. Это одна из форм ведения войны, которая ни в коем случае не может быть принята и поддержана, но должна быть выделена и проанализирована. Сейчас почти забыли, что во время Первой мировой войны применение газа было совершенно нормальным, а к концу Второй мировой никто об этом уже и не думал. На втором году войны перестали даже носить противогазы. Стало ясно, что силовой баланс сторон не предусматривает применения газа. Война изменилась. Можно добиться, чтобы происходящие войны не приводили к террору. Сегодня идет борьба за то, чтобы прекратилось применение мин. Можно этого добиться? Можно, потому что с газом удалось. Я сторонник формального запрета индивидуального убийства как части войны. Например, российские военные убили Дудаева и этим гордятся. По законам войны такие вещи не имеют права на существование.
— Исходя из своего жизненного опыта, что вы думаете о человеке как таковом?
— Это уровень философского мышления, на который я выхожу редко. Чем выше уровень абстракции, тем труднее дать четкий ответ на поставленный перед тобой вопрос. Для меня самое важное в человеке — его созидательное начало. В философском смысле я, пожалуй, неокантианец. Фундаментальная разница между живой и неживой материей, по-моему, заключается в том, что живая материя способна к самопознанию, поэтому она качественно меняется. Золото было таким же, как сейчас, и в Древней Греции, но наши представления об устройстве государства изменились радикально. Созидательное начало человека основано на его способности мыслить. Поэтому для меня идея, что развитие материальных сил — главное, что творит историю, неприемлема. Значит, для человека как абстрактной единицы самым важным является способность к созидательному мышлению без ограничений, которые на него накладываются материальными условиями жизни, государством, экономическими процессами.
— Вы относите к созидательному началу человека изобретение новых видов оружия, концлагерей и т.д.?
— К великому сожалению, да. Хотя возникновение концлагерей как проявление созидательности индивидуума можно поставить под сомнение. Это скорее бюрократическое исполнение воли государства в определенных условиях. Так поступила и Великобритания во время Англо-бурской войны.
— У нас распространено убеждение, что приоритет в этом деле принадлежит нам.
— Это ошибка. Концентрационные лагеря возникли в 1900 году и были иногда хуже, чем, например, Соловки. В английские лагеря для буров гнали целые семьи: женщин, детей, стариков. Это, по сути, была сталинская идея, но реализована она была гораздо раньше. Причем самой демократической страной, где парламентаризм существовал уже четыреста лет. В Англии такие лагеря были невозможны, но на расстоянии, где волю правительства выражали генералы, вполне.
Когда я говорю о созидательности человека, я имею в виду внесение чего-то нового в мир мыслей или действий. Тут нельзя прочертить линию прогресса. Это ломаная линия. Для меня самое ужасное — это образ мира, в котором человек абсолютно ограничен внешними силами, повергающими его в бездействие. Но человек пластичен.
— Временами даже слишком: Ключевский говорил: «Мысль без морали — недомыслие, мораль без мысли — фанатизм».
— Красиво. Но здесь возникает другая проблема: я не очень понимаю, что такое мораль. Хотя мне не раз говорили, что я моралист… У меня, безусловно, есть некие принципы, но они не отменяют моих сомнений. Два столетия назад считалось, что моральные принципы заложены в человеке, нужно дать ему возможность выразить их, тогда все встанет на свои места. Но человек доказал, что его пластичность сильна до такой степени, что говорить просто о естественной моральной тенденции, заложенной в нем, не приходится. Я могу установить личные принципы: так поступать не буду, потому что это бесчеловечно. Но, употребив термин «бесчеловечно», я опять вступаю на очень зыбкую почву. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы думать, что есть формальное и достаточное доказательство органической нравственности человека.
С другой стороны, я не могу избежать апелляции к морали. Как-то в период развала КПСС я написал статью «Развал советского социализма: вопрос этики или экономического развития?» Господствовала позиция, что экономическое соревнование между США и СССР проиграл последний, поэтому социалистическая система и развалилась. Я доказывал, что это главным образом не экономическая проблема: можно жить бедно и сохранять страну, все развалить может и зажиточный социум. Важнее было то, что идейная социалистическая система устроила отдельные магазины для элиты. Ее сгубила не плохая экономика, а фундаментальная безнравственность, покрытая социалистической риторикой.
— Вы возглавляете Московскую высшую школу социальных и экономических наук, занимающуюся поствузовским образованием. Зачем нужно такое заведение?
— В основе замысла создания школы лежит мысль, что невозможно, да и не нужно механическое взаимопроникновение Западной Европы и России. Важно интегрировать наиболее продуктивные элементы западного образования в сложившиеся российские традиции. В свое время я предложил российскому правительству создать российско-английский, российско-французский и т.д. университеты, что содействовало бы взаимной интеграции во многих областях. Вышло, что возник лишь один такой университет — это наша школа. Мы принимаем людей с высшим образованием, они получают два диплома: российский и британский магистерский. Наш принцип: не менее половины студентов должны быть не из Москвы. Мы создали стипендиальную систему, что позволяет нам отбирать людей не только по всей России, но и в бывших советских республиках. Специфика школы главным образом педагогическая: у нас больше самостоятельной работы, чем занятий в аудитории, больше письменных работ, включая экзамены, чем устных выступлений. Это развивает независимость мышления и действия. Все перечисленное предполагает куда более близкие, чем принято в России, взаимоотношения преподавателя и студента.
— Ваша работа в России — это подвижничество?
— Подвижничество — сильное слово, я не готов применить его к себе. Но считаю свое дело очень важным и для России, и для Великобритании. Я зарабатываю меньше, чем в Англии, но получаю огромное моральное удовлетворение от моего дела здесь.
Грамши выделил две главные составляющие революционера: пессимизм интеллекта и оптимизм воли. По-моему, это относится ко всем, кто создает нечто новое. Пессимизм интеллекта обязателен, иначе окажешься в дураках и, главное, провалишь свое дело. То, что школа существует уже семь лет, доказывает, что я не осел и знаю Россию достаточно, чтобы поддерживать коллектив в рабочем состоянии. Но интеллектуальный пессимизм должен умеряться оптимизмом воли. Я замечал тенденцию, которая демонстрирует разницу между английской и русской культурами. Я говорю о мании грандиозности: или мы повернем сибирские реки, или не стоит вообще браться за дело! Я отдаю себе отчет в том, что система образования очень консервативна, быстрое движение здесь невозможно. Есть хорошее русское выражение: вода камень точит…
Источник: «Независимая газета». Пессимизм интеллекта плюс оптимизм воли. 27 декабря 2002 года