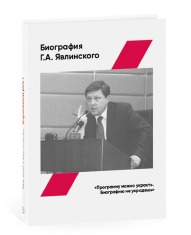Григорий Явлинский — политик, экономист, женат, отец двоих сыновей;
Вера Наумовна — его мама, жила во Львове;
Михаил — его брат; предприниматель, живет во Львове;
Сабина Ивановна Меркулова — его учительница в начальной школе №3 г. Львова; пенсионерка;
Игорь Мосесов — его друг с детского сада, много лет профессиональный ди-джей, живет во Львове;
Владимир Герегей — его друг детства, одноклассник по вечерней школе №20 г. Львова; руководитель городского клуба «Турист», живет во Львове;
Андрейко Михайло Дмитриевич — его коллега по слесарному делу на фабрике «Радуга»; начальник районного жилотдела, живет во Львове;
Дмитрий Калюжный — однокурсник по институту им. Плеханова; президент Центра «ЗЭКА-поддержка»;
Леонид Плигин — однокурсник по институту им. Плеханова; руководитель лаборатории Главного Управления МВД РФ;
Антонина Федоровна Зубкова — сотрудница по НИИТруда; заместитель директора НИИТруда, доктор наук, профессор;
Юрий Кимович Балашов — сотрудник по НИИТруда; заведующий отделом социальных проблем и труда за рубежом
Семен Михайлович Левин — приятель; дизайнер,
Лев Борисович Баев — начальник отдела управления совершенствования хозяйственного механизма; директор исполнительной дирекции Ассоциации развития персонала;
и др.: политики, экономисты, журналисты.
Явлинский:
— У меня было счастливое детство.
Мы росли в обыкновенной семье во Львове: мама — учительница, отец — воспитатель в детской колонии.
Мама закончила университет с красным дипломом. В ее трудовой книжке только одна запись. Тридцать с лишним лет она проработала в Львовском Лесотехническом институте.
Когда мама собралась за отца замуж, ей говорили: «Как ты на это решаешься? Он едва не по слогам читает». А она отвечала: «Это не главное. Это благородный человек. Мужчина должен быть благородным.»
Отец — боевой офицер, прошел всю войну, участвовал в Керченском десанте, воевал в Крыму, войну закончил в Чехословакии в Татрах.
Когда родители поженились, мама поставила условие, что не будет детей до тех пор, пока отец не начнет учиться. Сначала мама на него «давила», а потом и сам разохотился: историю Древнего мира, например, знал и рассказывал так, как будто жил в Шумере и в Греции. После войны отец закончил два факультета — исторический и юридический, получил диплом Высшей школы МВД.
Во Львове его знали все. Тридцать пять лет, до самой смерти в 1981 году он проработал с трудными подростками. Отец хорошо их понимал: его родители погибли в гражданскую войну. Он беспризорничал, пока не попал в коммуну Макаренко. Кстати, он — единственный из воспитанников Антона Семеновича, кто пошел по его стопам.
— Гриша рос благополучным мальчиком, мало болел, был послушным. Не из страха, а просто из уважения.
В садик ходил с удовольствием, там у него было много друзей. Некоторые так и остались до сих пор. У него всегда было много друзей…
Какие игры любил? Все, что обычно любят мальчишки. Правда, я пыталась учить его игре на фортепиано, но потом оставила его в покое.
В саду мечтал стать милиционером. Отец подарил палку регулировщика, старую, правда, но Гриша был наверху блаженства…
В его дни рождения мы устраивали концерты: дети пели, читали стихи, танцевали, играли на рояле, а сам он обычно бывал конферансье. Гриша был счастлив, очень доволен, всем «артистам» дарил подарки за выступления.
Игорь Мосесов:
— В садике у нас была общая первая любовь — Люба Кудлай. Девочка с белокурыми, вьющимися волосами, за ней ухаживали все. Верхом удачи считался тайно украденный поцелуй, а еще лучше, при свидетелях, чтобы кто-то мог подтвердить, что геройский поступок действительно совершен. И Грише это удавалось. Но любил он другую и до конца садика остался ей верен.
В школе у нас была общая симпатия, круглая отличница. Но с ней не было никаких шансов, она была гордая и недоступная.
С мальчишками Гарик, так мы его звали и зовем до сих пор, был умным наблюдателем. Конечно, он мог за себя постоять, но… Как-то он все так устраивал, что до драки не доходило.
И отличником он не был. По некоторым предметам блистал, а к другим относился как к должному. Он разделял предметы на интересные и неинтересные. Тогда это не было принято, мы старались успевать везде.
Все ребята сделают кое-как домашнюю работу — и на улицу, а его, пока все не закончит, звать бесполезно. Зато если уж вытягиваешь играть — значит, всю катушку. Он был генератором идей, скуку не переносил! Как только у нас намечался кризис, он тут же придумывал что-нибудь новое — и понеслась…
У него раньше всех «прорезалось» чувство юмора. Кстати, именно он позже открыл для меня Жванецкого.
Меркулова Сабина Ивановна:
Общительный мальчишка был. Вокруг Гриши всегда были люди. Маленький такой, а страшно любознательный, читал очень много и рассказчик прекрасный. Я даже думала, что из него выйдет литератор или историк.
Не могу сказать, что он был пай-мальчиком, но и не был непоседой. Надо отдать должное его родителям. Они уделяли ему и брату очень много внимания. Родители были примером.
Для Гриши не было и нет людей первого или второго сорта. Если бы мы сейчас встретились на улице, он подошел бы и поцеловал без всякого стеснения.
Явлинский:
— В бедности мы не жили, но поездка на такси была событием. Или покупка игрушки, или если штаны порвешь. Что такое ананасы, бананы, апельсины-мандарины я просто не знал.
Когда мне было лет десять, мама дала мне деньги на футбольный мяч. Держу в кулаке две трешки, ищу мяч и вижу цену: восемь рублей тридцать копеек. Можете представить, как я расстроился! Шел домой и думал: ну почему мяч стоит не шесть рублей, не пять, а именно восемь тридцать?
И вдруг этот вопрос вытеснил из головы неудачу с покупкой. Остановился у одной витрины, у другой… Почему велосипед стоит двадцать семь рублей, коляска — восемнадцать, а буханка хлеба — 12 копеек. Почему? Кто-то знает настоящую цену или просто сам взял и придумал?
Я прибежал с этими вопросами к деду, но даже он не смог мне ответить: «Какая разница, кто это придумал. Ты лучше подумай, как эти деньги заработать.»
Позже я узнал, что вопрос о цене во всех экономических теориях и системах — самый главный. И тот, кто знает на него ответ, становится либо великим ученым, либо великим финансистом.
— Гарик долго хотел работать с детьми, как его отец. И все же решил заниматься экономикой. Перешел в вечернюю школу. В 9-ом классе поговорил с Алексеем Григорьевичем об этом, пообещал, что сможет, работая, спокойно закончить среднюю школу.
В вечерней школе, куда попадали либо «по семейным обстоятельствам», либо полные двоечники. Ведь как было: пришел — тройка, не буянишь — четыре, рот открыл — пять. А уж мы-то по всем этим предметам были просто «надеждой класса» — сидели за одной партой, он первый вариант задачек для всех решал, а я второй…
Категорически против перехода в вечернюю школу были мама и бабушка Гарика, но он упорствовал, и — отец разрешил. Но для этого нужно было еще начать работать.
Игорь Моссесов:
— Летом Гарик устроился работать почтовым экспедитором. С пяти утра развозил по городу рассортированную работницами главпочтамта почту. Но там всё путали, и почта гормилиции отправлялась в баню, а университетская — в отдел патриархии. Каждое утро начиналось с нагоняя от возмущенных адресатов, и Гарик развозил всё по новой: … Продержался недели три.
Устроился на фабрику кожизделий, на пресс. Работа несложная: нажмешь на кнопку — вырубишь заготовку. Но и тут у него дело не пошло: никак скорость набрать не мог, а работа — сдельная. Поначалу работницы его подбадривали, на второй день — молчали, на третий — хмурились, а потом покрыли матом… Гарик смолчал, в обед пошел руки мыть и сбежал. Понимал, что они правы.
Явлинский:
— Тогда я пришел к отцу: «Папа, не могу больше, работать нужно по-настоящему». А он мне: «Если матери не проболтаешься, помогу». У него был друг на стекольном заводе, и меня взяли туда учеником слесаря-электрика.
День первый. Мастер просит принести пассатижи (сказал бы просто — плоскогубцы!). Признаться, что не знаю, что это такое — не солидно. Решил, что я умный: принесу всё, чему не знаю названия. И притащил несколько килограммов инструментов — все, кроме плоскогубцев! Сказанное в мой адрес печати не подлежит.
Мне приходилось лазать под помостами, где работали стеклодувы, и расплавленное стекло брызгало и зажигало спецовку. Забирался на свод печи, шел над кипящим расплавленным стеклом. Температура — сотни градусов, пока дойдешь, телогрейка дымится. Рассказывали, как один рабочий туда провалился — следов не осталось …
Был я там самый младший, и надо мной подшучивали, иногда довольно «круто». Там я впервые выпил спирта — его выдавали для промывки приборов. Никогда не забуду: 23 февраля, все сели, мне тоже налили стакан — все пьют, а я что же? Все вокруг в порядке, а я ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Все веселятся, а я, как истукан, сижу, жду, когда руки-ноги снова включатся. Просто голова профессора Доуэля. Часа два просидел, пока оцепенение прошло.
— На завод Гриша пришел совсем мальчишкой. Работа наша — ремонт и обслуживание измерительных приборов. Самое страшное было замена термопар — приборов, стоящих в центре печи. Печи такие старые, что кирпичи светятся, расплавленное стекло видно, а подходить нужно совсем близко, плюс жара… Тяжелая была работа, черновая, неблагодарная.
Однажды в какой-то праздник, пока мастера выпивали, его послали проверять платиновую термопару. И вот она у него утонула — прибор в тридцать тысяч рублей! Это в 69-м-то году! Огромные деньги! Переживал он страшно, а как начальство испугалось! Но с него и взять нечего — несовершеннолетний, его к такой работе не имели права допускать.
Если бы знал, что Григорий теперь окажется на таком посту — вел бы дневник. А так, помню, что он читал много, отлично знал английский, вообще много всего знал, но не зазнавался. Веселый всегда, компанейский, большой юморист. Была в нем, как мы говорим по-украински, «щирость». И улыбка его, мне кажется, не изменилась до сегодняшнего дня.
Владимир Герегей:
— Гарик занимался боксом, потому что считалось, что «добро должно быть с кулаками». В семнадцать лет он был чемпионом Украины по боксу среди юниоров и ушел из спорта только потому, что тренер сказал: если хочешь стать профессионалом, бросай все остальное.
Но человека без перчаток он никогда не бил, никогда. Один тип, бывший уголовник, преследовал нашу одноклассницу Любу. Как-то она рассказала об этом Гарику, и мы пошли ее провожать.
Страшновато, конечно: нам шестнадцать, а тут уголовник с непонятными намерениями. Не знаю, может быть, Гарику и не было страшно, он с такими людьми пока не сталкивался, а я знал, что человек, сидевший в тюрьме, — это очень серьезно.
Была-таки у них драка. Клиент оказался на заднице. Встал, сказал, все, ребята, ну вы попали. Но после этого мы его не видели, хотя сильно боялись. А Любу, конечно, домой провожали, сначала вместе, потом уж он один — школа заканчивалась полдвенадцатого ночи.
Мама:
— Гриша был очень самостоятельным, и сам все познавал, много читал. Никогда никакой помощи с нашей стороны ему не требовалось. Нелюбимых предметов, пожалуй, не было, к учебе он относился: надо — значит надо.
С пяти лет учил английский, он ему хорошо давался. Я даже думала, что это может стать его специальностью. В 5 классе мы перевели его в английскую школу со множеством предметов на английском. И все-таки он решил заняться экономикой и перешел в вечернюю школу, чтобы готовиться по тем предметам, которые были нужны для института. Я, признаться, была категорически против.
Но он с отцом все разговаривал об этом. Гриша очень его любил, просто боготворил, советовался с ним до самого последнего дня
Чем он сейчас занимается — его личное дело. Просто я полностью ему доверяю, не вмешиваюсь в его дела.
Владимир Герегей:
— У нас в вечерней школе была цель. Мы пошли в вечернюю, потому что четко видели свою цель, не хотели зря тратить время в простой школе. Я, например, хотел быть летчиком, а Григорий — заниматься экономикой. Кстати, тогда многим это было совершенно непонятно! Для нас экономист было все равно, что бухгалтер, а то, что Гриша объяснял про неправильное распределение и ценообразование, — это до нас не доходило.
У нас все было нацелено на институт, и каждый топтал себе дорогу в том направлении, которое выбрал. Мы с ним шли в том направлении, какое выбрали. Гарик был очень организованный и собранный человек. Утром просыпаюсь — он в окно лезет. «Ты что так рано встал, чего тебе не спится?» — говорю. А он, оказывается, вообще не ложился.
У нас была в классе пара девочек-отличниц, но эти именно «высиживали» свои «пятерки». Ему же было интересно учиться. Даже времени не замечал. Он был из тех, кто все схватывал налету.
Кстати, подружились мы с ним из-за несходства характеров. Я сначала делал, потом думал, а он — наоборот. И к родителям мы относились по-разному: я боялся своего отца, а у него были совсем другие отношения с отцом — задушевные, Гарик боялся его огорчить.
Когда он в первый раз влюбился, даже есть не мог. За столом после рабочей смены перед школой (уроки заканчивались к полуночи) нам его бабушка положит картошки с луком, котлеты. О Гарик сидит и думает: «Она такая прекрасная! Какая картошка?!»
Искрометный был, и сейчас такой: сидит, что-то там думает, а потом — улыбнется, и как что-нибудь выдаст! И прямо в точку. Улавливает тон компании и вдруг р-раз — все внимание переключается на него.
Мама:
— Первый экзамен в Плехановский сдал на «три» при проходном 13 баллов. «У вас шансов, молодой человек, никаких, поезжайте домой», — сказали ему в деканате. Но Гриша решил, что будет идти до конца и сдал остальное на «5».
Дмитрий Калюжный:
— В 1969 году мы поступили в Плехановский институт на общеэкономический факультет, на специальность «экономика труда».
Кто чего стоит, было ясно с самого начала. Григорий был из тех, кто учится, — это знали все. Он постоянно изучал что-то еще помимо программы. Не раз ловил себя на мысли: вот сидит рядом со мной человек, вроде бы такой же, как я, а понимает в несколько раз больше.
На семинарах, если мы были не готовы, то просили его задать вопрос. Он вставал: «Вот у меня есть вопрос», — и мучил преподавателя своими вопросами все полтора часа. А мы вообще не понимали, о чем речь.
Мы изучали науки, которых на самом деле не существовало, например, социалистическую экономику. Были предметы, которые, кажется, невозможно было воспринимать в принципе, например, технология металлообработки или проблемы воспроизводства рабочей силы. Он же как-то увязывал все это в голове, понимал, где применить знания, помимо экзаменов.
Меня всегда удивляло: начинаешь ему какую-то проблему излагать, подготовил целую речь, только начнешь — а он уже все понял. Очень важно, когда человек делает выводы без лишних слов.
У нас были прекрасные преподаватели, например, Абалкин читал политэкономию социализма. Читал очень хорошо, но возникали разнотолки, потому что это не имело ничего общего с ценообразованием, которое нам читали на предыдущей лекции. Было над чем задуматься.
Издавали подпольную газету «Мы», выпустили несколько толстенных номеров в одном экземпляре и передавали их из рук в руки. Он тоже туда писал что-то. Не знаю, как нас еще за самиздат не засадили.
Явлинский:
— Учился я легко, почти на одни пятерки, но однажды чуть не вылетел из института. Группу лучших студентов послали на практику в Чехословакию, и в бане мы разговорились о политике.
Я сказал: за то количество крови, которое пролил наш народ, он заслуживает лучшей жизни. А наш комсорг в ответ: «За социализм можно было бы положить людей и в сто раз больше.» Это меня взбесило. Мало того, что я его назвал людоедом, сталинистом и маоистом, я ему еще вмазал как следует — тазом. Хорошо, таз их оказался хлипкий, а если бы был наш, отечественный? Комсорг остался жив, но накатал жалобы: ректору, в комитет комсомола, в горком, в КГБ.
Меня начали исключать. Но на собрании, где это должно было произойти, одна девочка, Нина Петраченко, совершенно неожиданно предложила дать мне рекомендацию в партию, и собрание за это проголосовало. Скандал разрастался.
Декан сказал: «Если не хочешь, чтобы тебе башку оторвали, забудь обо всем». Не очень-то забудешь. А потом я познакомился с девушкой, ее звали Лена. Мы поженились.
Леонид Плигин:
— Он, как мне кажется, приехал «завоевывать» Москву. Надо сказать, у него это здорово получалось. Он учился очень хорошо. На английский вообще не ходил, — ему разрешили. А в специальные предметы лез с головой: политэкономия, экономика труда, Маркса почти всего прочитал. Оставался после занятий, с преподавателями разбирался во всех тонкостях.
У него была какая-то девчонка очень интересная, симпатичная, с другой специальности. Они дружили, не скрываясь. Мы как-то стеснялись, а он нет.
Мы с Григорием дружили — мальчишек на курсе было мало. И все же мы были очень разные. Нам, московским, что надо было? Лекцию прогулять, пива выпить, около института побазарить вместо того, чтобы на занятия идти. Шпана самая настоящая. Гришка-то, конечно, далеко не маменькин сынок, но у нас были одни интересы, а у него немножко другие.
Рядом с Плешкой пивных было много очень. Одна на Садовом Кольце, другая за углом в Строчановских банях. Он тоже захаживал с нами, правда не так часто. И все бы хорошо — парень честный, надежный, умный, хотя немножко наивный, смешливый и остроумный очень, но как начнет рассуждать насчет комбинаций производственных факторов или о восстановлении рабочей силы, — все, можно расходиться …
— После аспирантуры попал в Институт Управления угольной промышленностью. У меня была замечательная, совершенно конкретная работа: я составлял должностные квалификационные справочники. До того времени работники шестисот шахт и разрезов, от начальника шахты до директора библиотеки, существовали без унифицированных должностных инструкций, кто в лес, кто по дрова.
Чтобы написать такие инструкции, нужно было своими глазами увидеть, что делает начальник шахты, главный инженер, начальник смены, горный мастер и так далее. Нужно было ходить за ними с хронометром, фиксировать каждый их шаг, каждое действие. А потом постараться понять: что действительно нужно и полезно, что включить в перечень обязанностей, а что не нужно, излишне или вредно.
Четыре года мотался по всей стране: Кемерово, Новокузнецк, Челябинск… В каждой шахте, в каждом разрезе свои условия: тип угля, мощность пластов, глубина, загазованность. Неделями с хронометром в руках я ходил по шахтам. Однажды часов десять простоял по пояс в ледяной воде. В мыслях простился уже со всеми, не надеялся выйти из забоя. Нас спасли, но трое из пятерых умерли в больнице.
Я глазами взрослого человека увидел, как у нас в «рабоче-крестьянском» государстве, относятся к людям: бараки, грязь, угольная пыль, пустые полки в магазинах… А постоянный обман? Ленин когда-то ввел для шахтеров 6-часовой рабочий день. Этим хвастались перед всем миром, забыв сказать, что отсчет начинался с прибытия на рабочее место. А туда добирались иногда по два часа пешком — вагонетки для доставки на место не предусматривались. И получается, что шахтеры на работе не шесть, а все двенадцать-четырнадцать часов. Что человек может после такой работы? Только пить.
В диссертации я предлагал разные методы: оптимизацию системы обслуживания с использованием теории вероятности, — чтобы сэкономить 10-15 минут рабочего времени. А рабочие с обеда приходят на два часа позже и абсолютно пьяные. Вот и все мои десять минут. И в шахтах — то же самое… А условия труда?
Два толстых справочника вышли в свет, ими до сих пор пользуются. Но то, что я там увидел, снова и снова заставляло меня ломать голову над вопросом: как изменить нашу жизнь, нашу экономику? Что сделать, чтобы люди жили нормально и нормально работали?
— Григорий поступил в НИИтруда на должность заведующего сектором тяжелой промышленности; позже работал завсектором управления трудом. Толковый молодой человек. Все буквально на ходу схватывал, ориентировался, обладал хорошим аналитическим умом. В коллектив влился — в своей сфере он был очень квалифицированным специалистом. А уж в соответствующем ему масштабе он проявился уже за пределами института.
Все, кто с ним сталкивался, отмечали, что, во-первых, он очень знающий ученый. А во-вторых, общительный, и работать под его руководством легко. Кроме того, тех, кто с ним работает, он тащит за собой, он умеет увлечь своими идеями. Потом Гриша очень многих взял с собой — тех, в кого он верил, на кого надеялся, в ком видел коллегу. Это редкое качество, у русского человека вообще, а у политического деятеля особенно.
Вступил в партию, потому что без этого никуда в то время никто не двинулся бы. Вступил не без проблем. Его спрашивают: «Почему у нас не идет хозяйственный механизм?». И он прямо отвечает: потому, мол, он не идет, что руководители не слишком понимают, что происходит в этом механизме. А все члены бюро — директора заводов, люди пожилые, конечно, на них это действовало.
Владимир Герегей:
— С самого детства Гарик был диссидентом, в том смысле, что по-другому все видел. «Счастливое детство», пионерлагеря — он был веселым скептиком в этом отношении. В 70-е он мне на примере табуреток объяснял суть экономических процессов и как они идут у нас в стране. Он яростно был настроен против всего этого дела. «Вова, — говорил он, — скажи мне, пожалуйста, вот завтра выйдут люди и начнут кричать: долой Брежнева, партию, долой все это, ты что будешь делать?» Я даже не сомневался — возьму автомат и буду стрелять.
Со мной тогда, конечно, бесполезно было спорить.
Явлинский:
— Как-то я пришел к отцу со своей идеей реформирования советской экономики. Он внимательно меня выслушал и рассказал притчу про человека, у которого кожа была желтого цвета. Из-за этого его всю жизнь лучшие врачи мира лечили его от желтухи. Но кожа так и оставалась желтой. А когда он умер, оказалось, что он был китаец.
Тогда я начал думать: может быть, и социализму никакие лекарства не помогут? Может быть, нужно что-то совершенно иное?!
Юрий Кимович Балашов:
— Я был с Явлинским знаком не по науке, а по работе в комитете комсомола. На весь комитет, человек на сто, — кандидатами наук были мы двое. Гришин сектор — Ученый Совет молодых специалистов, который почему-то был при идеологическом секторе.
Гриша помогал молодым специалистам: организовывал конференции, пытался составлять и «пробивать» сборники их трудов, — тогда трудно было опубликоваться, рассказывал, как писать и защищать диссертации. Работать с молодыми специалистами было необходимо. Ведь как было: молодой человек после института приходит работать, и его, конечно, заставляют сначала бумажки перебирать. Так очень многие быстро деквалифицируются.
Гриша проработал у нас в институте года четыре. Здесь он в партию вступил. Я это хорошо помню, потому что у него были сложности. После того, как он вернулся с первого собеседования, из райкома звонили в партячейку: кого вы нам прислали!
Когда Григорий ушел в министерство, мы почти не встречались, но новости распространяются быстро. Я знал, что у него был конфликт с председателем Госкомтруда Баталиным из-за какой-то работы по совершенствованию хозяйственного механизма. Баталин, который потом возглавлял Госстрой, тогда сильно взъярился на Гришу.
Потом он в больницу попал. Говорили: «засадили». Не знаю.
Антонина Федоровна Зубкова:
Заведуя сектором управления труда, Григорий написал со своим коллективом научный доклад по проблемам усовершенствования хозяйственного механизма. На ученый совет обычно предоставляют тезисы, а поскольку он человек в научном плане прямой, то все, что думал, и изложил в этих тезисах.
Приглашенное руководство Госкомтруда, Сухаревский Борис Михайлович, почитал и сказал: «Тезисы изъять, обсуждение не проводить».
Явлинский:
— Я написал работу о совершенствовании хозяйственного механизма со следующим выводом: нужно либо возвращаться к тому, что было при Сталине, либо давать предприятиям экономическую свободу. Книга вышла с грифом «Для служебного пользования», и уже на третий день после рассылки со мной стали твориться странные вещи.
Меня начали вызывать в разные инстанции и требовать объяснений. Потом обязали собрать все экземпляры книжки. С мая 1982 года каждый день я ходил к следователю. Каждый день, в 10 утра, я являлся к одному и тому же человеку, в один и тот же кабинет. И слышал один и тот же вопрос: «Кто вас научил? Вы должны нам сказать, кто вас попросил это написать».
Однажды я пришел в хорошем настроении и ответил, что меня научил Карл Маркс. Мне сказали, что если я еще раз так отвечу, то больше оттуда не выйду. Я извинился. Так продолжалось до 11 ноября. В этот день я пришел, как всегда, но все изменилось: 10 ноября умер Брежнев, начался период Андропова, и мне сказали: «Больше можете не приходить».
Я очень много тогда выступал, откровенно разговаривал с людьми. И договорился. Когда пришел Черненко, началась новая эпопея. На диспансерном осмотре мне заявили, что у меня туберкулез в открытой форме — и сразу в больницу. Там я пролежал 9 месяцев. Дома сожгли все мои книги и вещи. Одним словом, плохое дело.
Попал он туда неожиданно: собирался ехать отдыхать, пошел на осмотр, чтобы получить курортную карту. И вдруг ему заявляют, что у него туберкулез в тяжелой форме. Может быть, им и не удалось бы его упечь, если бы не спекуляция на том, что это опасно для малыша: Алешке, младшему, два года было. Они его, конечно, здорово на этом сыграли, он даже домой боялся ходить.
Так началась борьба с ним, хотя Григорий и не понимал этого сначала. Его начали лечить так, как лечат туберкулез. Человека форсированно заражают туберкулезом, чтобы процесс был мощным, и после этого начинают глушить болезнь лекарствами. Риск на самом деле огромный.
Ситуация ухудшалась, потому что болезнь не прогрессировала. Доводить доводили, но организм был настолько силен, что не доводился и активно сопротивлялся. Казалось, как только его оставляют в покое, он начинает расцветать. Его начали убеждать в необходимости операции. Это было очень страшно — молодой, здоровый, розовощекий парень, каким он был в тот день, когда его привезли, умный, блестящий человек, и вдруг — ему распиливают грудную клетку, вытаскивают легкое… Наконец, у него возникли сомнения в том, что он действительно болен, и за несколько дней до операции какой-то врач сказал ему, что на самом деле он здоров. Ночью он сбежал.
Обошел несколько поликлиник, везде делал рентген и принес кучу справок, что он действительно здоров. Но врачи боялись давать официальное подтверждение, потому что им нужно было оправдать первоначальный диагноз. Кроме того, была проблема и в бюллетене, ведь он 9 месяцев получал деньги по больничному. Помню, при выписке ему поставили диагноз — варикозное расширение вен.
У меня создалось четкое впечатление, что это была целенаправленная акция, — его хотели «заглушить». Думаю, это было связано с его работой. Иначе, с чего человека вдруг начнут травить? Не в переносном, а в буквальном смысле: уколами, лекарствами. Мы однажды эти таблетки потолкли и в хлебных катышках скормили голубям. Некоторые, потрепыхавшись, не далеко улетели. А Григорий принимал по 4-6 таких таблеток в день. Плюс бронхоскопия, раз в неделю — рентген. Он человек дисциплинированный: ему говорят, что процедура нужна, и он идет.
Моральное давление было сильное: больница почти режимная, арестантские робы с надписью на спине масляной краской: «1 туб. МПС». Некоторых за «хорошее поведение» иногда отпускали домой под расписку. Но Грише в этом вопросе не везло — его сильно шантажировали детьми. Потом в его крохотную палату положили пожилого человека с раком легких, который несколько недель умирал у Григория прямо на глазах. Это было просто страшно.
Если бы не его воля и невероятное жизнелюбие, чувство юмора- не знаю, чем бы это кончилось. Конечно, ему повезло — от природы он человек крепкий духом внутренне и физически сильный, он по утрам, например, бегал по парку. Но главное, внутри у него пружина очень сильная…
Он все время работал: ему привезли кучу книг, и он там постоянно читал, писал. И ночью работал. Григорий нас всех просто заражал своей силой. А кроме того, он был очень остроумный. Зайдет в палату, встанет около двери и рассказывает даже не анекдоты, а просто случаи разные. И мы буквально заходились от смеха.
Это было трагикомическое время, потому что, с одной стороны, человека на наших глазах пытались раздавить, просто умертвить, а с другой, — я с ним всегда хохотал от души. В нем была и прозрачность, и бездонность. Мне из-за него стало казаться, что «наверху» все такие. Когда я стал общаться с людьми на том же уровне, я с грустью отметил, что, к сожалению, он — исключение из правил.
Я загремел в больницу в апреле 1984 года с диагнозом увеличение лимфоузлов в легких. Мне сказали, что это ерунда, меня «быстренько» вылечат, но по милости врачей я пролежал там полгода, перенес операцию и еще два года был на инвалидности. А Гриша-то просто все рекорды побил, месяцев девять.
— Я пришел на работу в Госкомтруд в июне 1985 года, когда комитетом руководил Юрий Петрович Баталин. Мне сказали, что у меня уже есть заместитель, с которым я еще не знаком, но, дескать, он хороший парень. И однажды входит Григорий Алексеевич: «Здравствуйте, я Ваш заместитель».
Наши отношения были дружескими. Конечно, я был начальником, он — подчиненным, но у нас никогда не было жесткой субординации. Маленькая команда, общие цели, общие интересы и никакого дележа власти, субординация — номинальная, дистанции не было. Не типично для госучреждения, но так оно и было. Мы были увлечены общей идеей и совершенно добровольно сидели до середины ночи. Нас никто не заставлял это делать, нам было просто интересно. И сотрудники к нему относились с уважением, как к надежному, «своему» человеку.
Наш отдел занимался проблемами совершенствования систем управления. Мы участвовали в нескольких больших программах, которые шли по стране. Потом началась подготовка таких мощных документов, как «Закон о предприятии», «Закон о кооперации», аналитических материалов.
Помимо этого, отдел занимался практическими, приземленными вещами: оплатой труда работников аппарата управления — представительных органов власти всех уровней, министерств, ведомств, исполкомов, наших дипкорпусов, учреждений за границей. Объем работы — огромный. Во всем этом Явлинский очень активно участвовал, хотя, больше все-таки занимался вопросами совершенствования экономической системы.
В 1988 году он стал начальником управления по социальным вопросам, потом он перешел к Абалкину в Совмин, там проблемы были масштабнее. В Госкомтруде все определяет тематика, проблемы смотрятся через призму трудовых отношений. В Совмине начиналась экономика в широком смысле слова.
Задачи, которые стоят перед политическим деятелем, — особый предмет, для их решения не нужно быть производственником. Может быть, такой опыт и не помешает, но он необязателен. Гораздо важнее, чтобы человек мог смотреть на вещи обзорно, мог решать проблемы системно, понимать закономерности. Это гораздо важнее. Кстати, есть ли какой-нибудь крупный зарубежный деятель с прошлым «производственника»?
Да, Явлинский никогда не был директором крупного производства, это правда. Но ведь это стереотип, выработанный за годы советской власти, что политик обязательно должен быть «производственником». Это просто абсурд. Тем более, что основной задачей нашего «советского» производственника было давить, чтобы план был выполнен, — рынка-то не было.
Конечно, само появление Явлинского в министерстве в то время — это феномен. Я до сих пор не понимаю, как это могло получиться. Тогда такие должности утверждали на коллегии, обязательно согласовывали с ЦК партии. Мы же с ним были своего рода «белыми воронами» — по складу мышления мы были рыночниками. Еще с института, когда поняли, что такое закон стоимости, цена и макроэкономика. Мы понимали, что существующая система нежизнеспособна.
Баталин — умный, волевой человек, но… он вырос на партийно-хозяйственной работе. Главное для него было жестко спрашивать, давить. Но даже он понял, что нужно что-то свежее — жизнь потребовала непривычных подходов. Эксперимент начался, и сразу все всколыхнулось. Появление Явлинского, такого отдела, как наш, начало широкомасштабных экспериментов, говорит о том, что необходимость в переменах созрела изнутри.
Потом я услышал, что Явлинского назначили заместителем председателя Совета Министров у Силаева. Это было странное назначение, на мой взгляд: при вроде бы демократической линии Ельцин вдруг назначает премьером Силаев, «оперативщика», заведующего машиностроением. И у этого «диспетчера» замом — Явлинский?! Это было совершенно несовместимо.
Беседовала Евгения Диллендорф