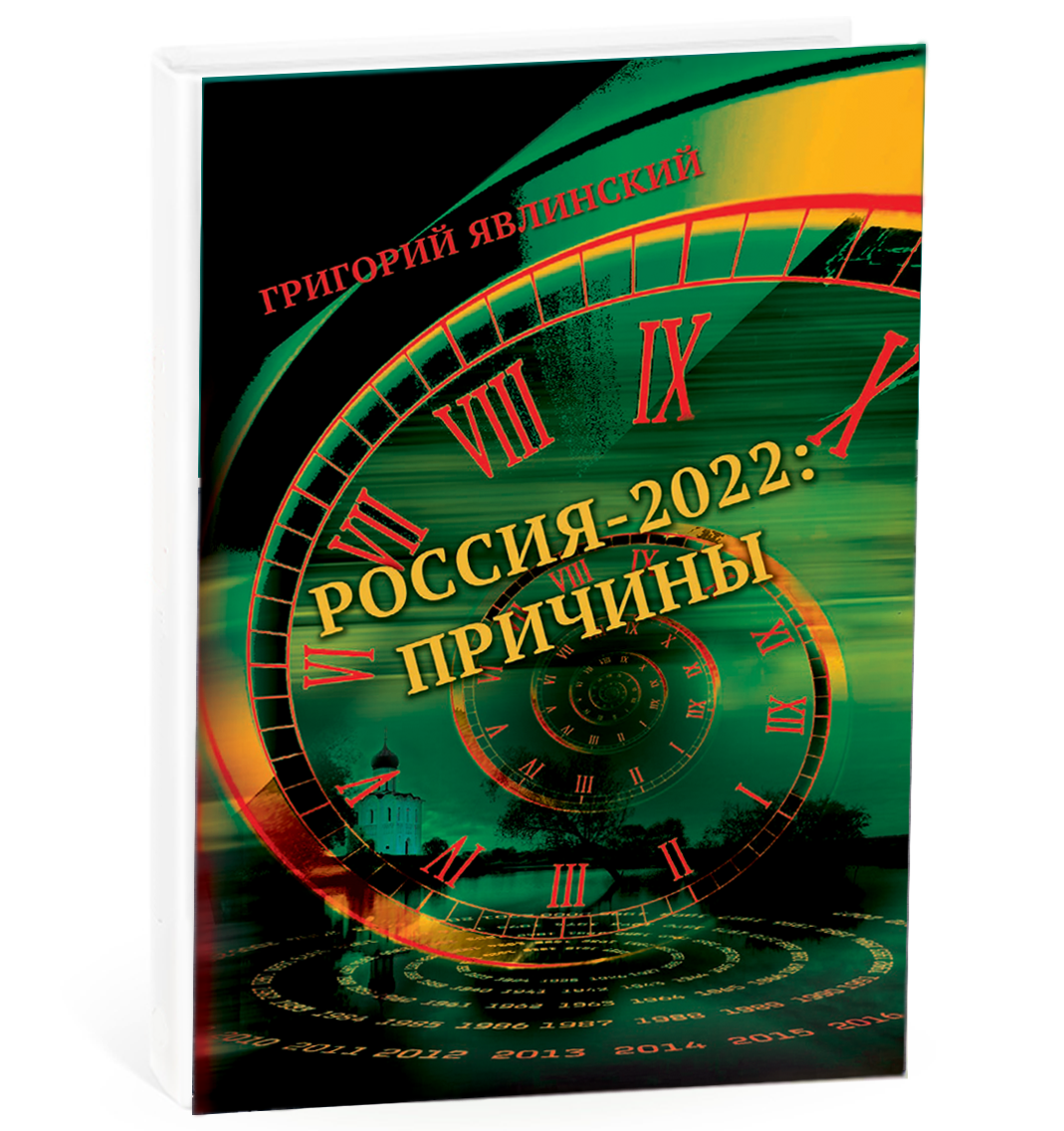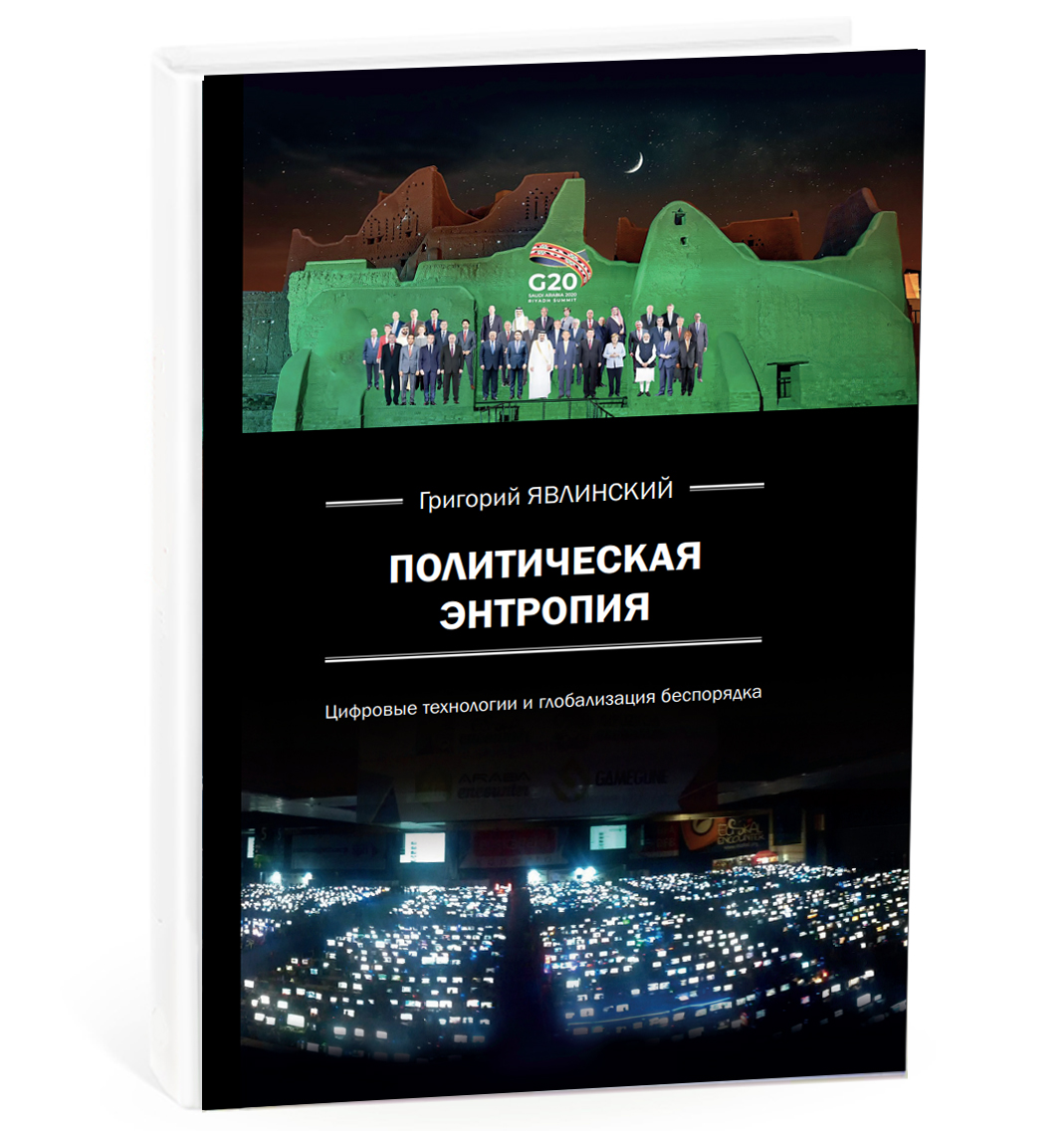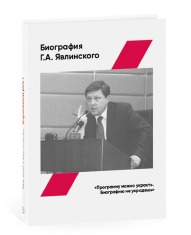Летом 1996 года президент Ельцин заключил Хасавюртовский мир с чеченскими сепаратистами и заодно пообещал российским матерям контрактную армию. Если вспомнить президентские выборы 96-го года, то надежды на прекращение чеченской войны и избежание скоропостижной гибели призывников, в совершенстве владевших лишь лопатой, сыграли куда большую роль в победе Ельцина, чем пляски под хит сезона «Голосуй или проиграешь».
В 1999 году события разворачивались по другому, но тоже кавказскому сценарию. На этот раз кандидат в президенты не заканчивал войну, а начинал. Война с чеченским сепаратизмом, позднее переквалифицированная в войну с международным терроризмом, открыла Владимиру Путину в 2000-м путь к сердцу российского избирателя.
Сегодня, как и тогда, нет никаких сомнений в том, что на фоне кавказской войны любые манипуляции с передачей или сохранением власти будут оправданы. Не появится ли у очередного претендента на Кремль искушение задействовать кавказский фактор? Гипотетически для этого есть несколько сценариев. Рассмотрим их вероятность.
Сценарий первый: третья чеченская
В последнее время участились разговоры о том, что Кремль вынашивает планы новой чеченской кампании. Не думаю, что они имеют под собой серьезные основания. Москва, надо полагать, прекрасно понимает, что республику с оставшимися пятью сотнями боевиков, коррупцией и специфическим устройством силовых структур лучше не раскачивать. Потому что счастливый преемник уже никогда и ни за какие деньги не сможет создать даже иллюзию того, что федеральный центр добился прогресса на пути к мирной жизни и наладил работу пророссийского правительства.
Настойчивые прогнозы, утверждающие, что созданные Кремлем силовые структуры снова уйдут в горы, свидетельствуют всего лишь о политической борьбе внутри Чечни – с участием Минобороны и других ведомств, которые таким образом пытаются обосновать свое присутствие в республике и соответствующие суммы в бюджетах. На самом деле любое организованное сопротивление в Чечне сегодня лишено идеологии, а следовательно, и шансов на успех. Россия, плодя коррупцию, щедро инвестирует в республику бюджетные средства, и есть все основания полагать, что с каждым годом эти суммы будут увеличиваться. По крайней мере, нынешнее руководство ЧР прилагает к этому максимум усилий. На этом фоне чистый сепаратизм, без религиозных примесей, не выглядит перспективным. А идея теократического государства в Чечне дискредитировала себя еще в конце 90-х. Сегодня возможен лишь экспорт теократических ценностей и форм правления в Дагестан и Ингушетию, которые еще не пробовали внедрить у себя этот опыт.
Сценарий второй: собирание земель
Несколько более вероятным кажется сценарий, при котором подразделения, созданные в ходе «чеченизации республики», могут быть использованы в «мирном урегулировании» возможных конфликтов в Южной Осетии и Абхазии. Тут, правда, вызывает вопрос степень готовности Грузии к участию в этих конфликтах. Но, кажется, Михаил Саакашвили хорошо понимает, что одного батальона «Запад» или «Восток» будет достаточно, чтобы грузинская армия оказалась в сложном положении.
Проблем в этой ситуации две. Присоединение к России Абхазии и Южной Осетии требует времени на проведение разного рода переговоров и референдумов. Этого времени нет. Кроме того, если присоединение Абхазии, как перспективной курортной зоны, имеет ясный экономический смысл, то с Южной Осетией экономическая составляющая не просматривается. Однако в любом случае преемник будет без всяких сомнений выглядеть «собирателем советских земель», что в контексте украинских и грузинских революций порадует российского обывателя.
Более серьезной проблемой может стать ответная реакция Грузии. Однако, учитывая состояние грузинских вооруженных сил, эта реакция вряд ли примет форму военной агрессии. Преемник рискует нарваться лишь на протесты грузинских властей по поводу нарушения территориальной целостности страны и трехстах тысячах грузинских беженцев из Абхазии. Запад в очередной раз подвергнет Россию критике, после чего ей присвоят новый инвестиционный рейтинг – в связи с появлением у Абхазии внятного юридического статуса как зоны коттеджно-гостиничного строительства. Критика забудется быстрее, чем «Дон-строй» возведет «Алые паруса» под Пицундой, а Грузия вряд ли отважится отвоевывать Абхазию обратно. Полноценного военного конфликта не получится. Соответственно и весь проект теряет смысл.
Сценарий третий: экспорт управляемого ваххабизма
Ожидания войны в Дагестане, подкрепленные новостями о наращивании в республике военно-милицейской группировки, имеют куда большие шансы сбыться. Серьезной проблемой на пути экспорта чеченского сценария в эту республику является территория, на которой придется разворачивать контртеррористическую операцию. С одной стороны, Дагестан потребует мобилизации более значительных военных ресурсов, чем компактная Чечня. С другой стороны, в России уже появилось немало военных и милицейских подразделений, прошедших боевую «обкатку» и бизнес-тренинг по организации «блокпостов» и «зачисток» в Чечне. Эти части с большим рвением примут участие в наведении конституционного порядка и искоренении экстремистского подполья в Республике Дагестан. Мотивация бюрократического аппарата также предельно ясна. Восстановление Дагестана потребует гораздо больших вложений, чем реконструкция Чечни. Схемы их проводки давно опробованы, придумывать ничего не нужно. Более того, «тендерный» отбор выявил большое количество фирм-подрядчиков, готовых работать в таких горячих точках, как Чечня. Нет сомнений, что восстановительные работы в Дагестане их тоже не отпугнут.
Однако период, который потребуется для «дагестанизации» конфликта, учитывая размеры и специфику республики, будет в два, если не в три раза длиннее периода «чеченизации».
Так называемое экстремистское подполье в основном сконцентрировано в Дагестане, но имеет большое количество филиалов в Ингушетии, КБР и КЧР. В настоящее время оно не проявляет опасной активности. Но ваххабизм в российской интерпретации представляет собой военизированную форму шариатского правления, которое вполне может стать реальностью. В том случае, если Россия перестанет щедро оплачивать лояльность северокавказских элит и вербовать в силовые структуры большинство боеспособного мужского населения. Инструкторы и проповедники, работавшие в Чечне в 90-е годы, вполне способны экспортировать ваххабизм в другие республики Северного Кавказа.
Последний год подполье начало функционировать с оглядкой на политическую конъюнктуру. Как правило, оно не имеет обыкновения комментировать свои действия, но, например, смена Валерия Кокова на посту руководителя КБР как-то подозрительно удачно совпала с боями в Нальчике. Если в 2007 – 2008 году события будут разворачиваться по такому же сценарию, можно будет смело утверждать, что ваххабизм в нашей стране стал так же управляем, как демократия. И если местные элиты находят рычаги для воздействия на экстремистов, используя их в своих целях, то и федеральный центр вполне может воспользоваться этим опытом.
Война в Дагестане, со всех точек зрения, вполне может стать предлогом для реализации любого сценария передачи власти. Но тут тоже есть две проблемы. Во-первых, степень управляемости экстремистских ячеек неочевидна. Во-вторых, эти ячейки тесно между собой связаны, а значит, нет гарантий, что войну не придется вести одновременно и в Ингушетии, и в КБР, и в КЧР. В таком случае не вполне ясно, как эту войну заканчивать.
Сценарий четвертый: спорные территории
Известно, что сегодняшняя административно-территориальная структура Северного Кавказа формировалась еще при Сталине, когда власть была гораздо крепче, чем сейчас. Российский диктатор, видимо, не испытывал большой любви к кавказским народам, поэтому заложил для будущих поколений бомбу замедленного действия: территориальные претензии к соседям имеют сегодня практически все народы и республики на Северном Кавказе. Как только власть ослабла, бомба взорвалась. Некоторые претензии вылились в межнациональные конфликты начала 90-х. Сегодня не менее 18 административных районов в составе различных республик по всей территории Северного Кавказа являются спорными, в том числе три района Дагестана и два района Ингушетии, которые были отторгнуты Сталиным от Чечни. При нынешних возможностях Кремля манипулировать этими претензиями достаточно просто. Однако, вызвав конфликт, погасив его и выставив преемника миротворцем, Кремль создаст опаснейший прецедент, которым впоследствии могут воспользоваться другие республики или народы, населяющие Северный Кавказ. И не исключено, что сделают это, не спросив разрешения у Кремля.
Сценарий пятый: для оппозиции
Конфликты на Северном Кавказе – инструмент, с помощью которого потерять Кремль так же легко, как и получить. Поэтому определенные шансы в преддверии 2008 года, как ни странно, имеет и оппозиция. Для начала ей надо просто понять природу происходящих здесь митингов и акций протеста. Любой митинг – при хорошем поводе, раздаче денег и обеспечении горячего питания (желательно бараны) – может продолжаться сколь угодно долго и собрать неограниченное количество участников. Примеров тому множество. При этом никакой ОМОН не будет стрелять по митингующим, даже если приказ даст верховный главнокомандующий. Потому что родственники потерпевших обязательно превратят в потерпевших самих омоновцев, да к тому же большинство омоновцев окажутся родственниками кого-то из митингующих. Известны случаи (КЧР), когда главы республик скрывались от митингующих женщин, убегая через черный ход. Поэтому при умелой постановке дела (щедром финансировании, например) любая оппозиционная партия способна вывести из строя администрацию и силовые структуры путем организации серии крупномасштабных митингов. Это, в свою очередь, может стать основанием для торга с Кремлем либо для предъявления серьезных претензий.
Однако любое начинание, идущее из федерального центра, упирается в местную специфику. Во-первых, оппозицию на Северном Кавказе воспринимают не как альтернативу режиму, а как еще один источник получения денег из федерального центра. То есть отношение к ней столь же потребительское, как и к федеральным властям. Среди оппозиционеров нередко встречаются родственники членов правящих группировок. Зарегистрировать любую партию или организацию в регионе не составляет большого труда.
Это уникальный случай, когда волк и коза могут находиться в одной лодке, и никто не пострадает. Весь вопрос в капусте. Волк не съест козу, но заставит ее поделиться капустой и снимет как минимум процентов 60, а то и все 70. Соответственно митинги могут пройти в режиме отчета перед спонсорами, и революция будет провалена.
***
Абдулла Истамулов — президент Центра «СК-Стратегия»