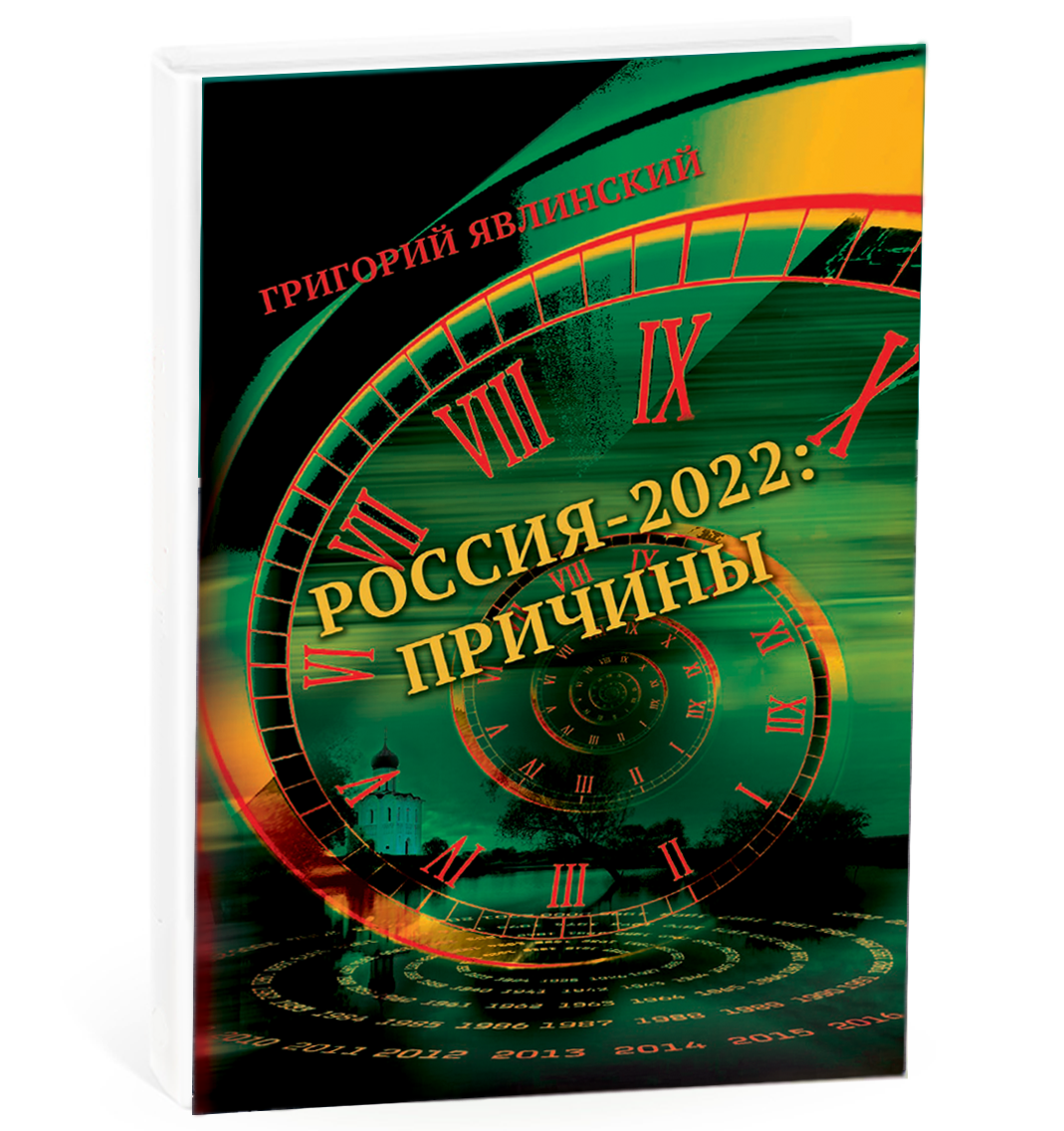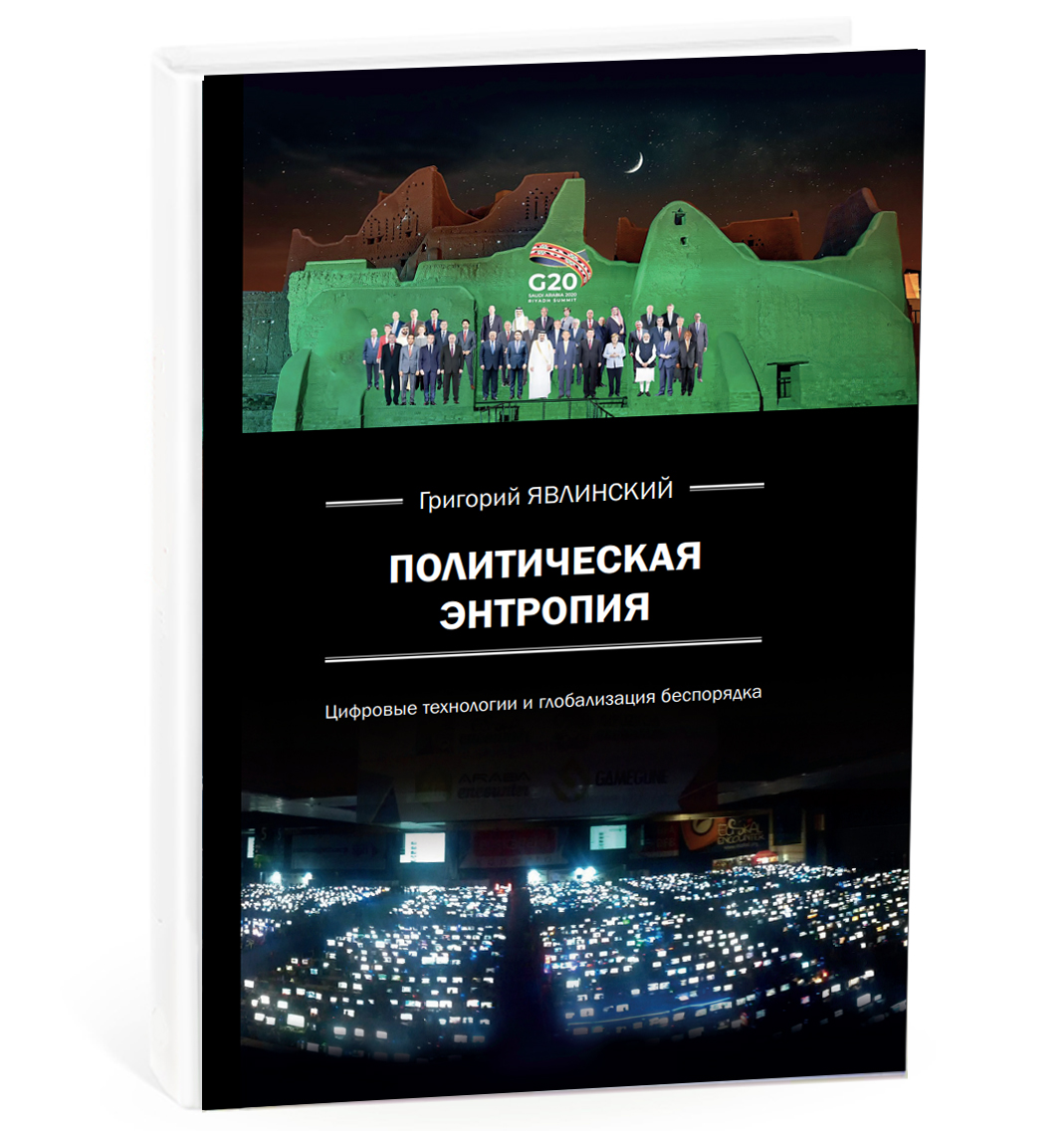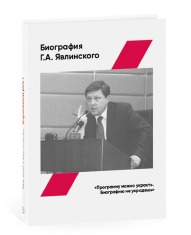На Новой сцене МХАТ им. Чехова — премьера пьесы М. Угарова «Обломов» по мотивам романа И. Гончарова, режиссер — А. Галибин
Роман Гончарова «Обломов» становится знаковым в самые переломные моменты нашей общественной жизни, да и написан он был в такой момент. Кто лучше: деятельный Штольц или Обломов — ответ диктовало время и его потребности. Как только речь шла о том, что пора вывести Россию на европейский путь, — находили, что Штольц — молодец. Но в какой-то момент выпирало, что он — немец, что слишком много суетится, что он все-таки не чета настоящему природному барину Илье Ильичу Обломову, который работать не любит не только по лени, а по более тонким и глубоким причинам.
Штольцовская суета у нас синоним буржуазного прагматизма, рассудочности и чрезмерного попечения о делах земных, а значит, пошлых. Он жесток, не дает развернуться душе, да и вместо души у него расчет.
Молодой драматург М. Угаров написал пьесу по мотивам гончаровского романа для сегодняшнего читателя, которому, в силу вполне штольцовских причин, может, и недосуг читать толстую неспешную книгу, а знать поучительную историю не мешает. И рассказывает ее быстро, тенденциозно и доступно.
Действие весьма удачно оживляется всегда уместными народными песнями, которые Обломов слушал в детстве, они уводят его из неинтересной сегодняшней жизни. Эти песни, их покой, грусть захватывают и деловитого Штольца, и зрителей, которые в этих песнях узнают тоже узнают свое, родное. Студентки Школы-студии МХАТа, исполняющие роли девушек, несколько декоративно (что и хорошо: а каким еще может быть пение в столичном городе, в современной жизни, хоть 19-го века, хоть 21-го), но вполне в русле того складывающегося стиля Новой сцены, где почти во всех спектаклях поют, и хорошо.
Пьеса Угарова, называемая то «Обломов», то «Облом-off», то «Смерть Ильи Ильича», полна литературных аллюзий, которые, впрочем, не отягощают и не мешают. Это пьеса-диалог. Кроме привычного «Обломов-Штольц», важен диалог «Обломов-врач». Установить болезнь, чтобы потом ее лечить — это вполне в духе русской литературы 19 века (конечно, вспоминается предисловие к «Герою нашего времени»). Врач, конечно, не вылечивает Обломова, наоборот, Обломов чуть было не заразил резвого доктора с чертами Штольца своей вялостью, лежанием на диване и сидением дома.
На Новой сцене МХАТа им. Чехова нет никакой границы между сценой и зрителями. Врач, Штольц, другие герои, кроме, пожалуй, Обломова, начиная спектакль, здороваются со зрителями, заговаривают с ними, вступают в диалог. Конечно, сейчас это модно, но вряд ли режиссер А. Галибин хотел сделать, как все. Скорее, он объединял зрителя с героями, давая возможность представить, кто тебе ближе.
Приезжает Штольц, поднимает, как водится Обломова с дивана (диван и кресло — так лаконично оформлена сцена в духе схематичности пьесы), после первых вопросов-ответов, они медленно поют старинную песню, которую, видимо, певали и раньше, Андрей Иваныч закрывает глаза, усаживается около дивана: Почти идиллия. Но вдруг на сцену врывается посыльный с криком: «Пшеница — по два рубля за пуд». Штольц вскакивает, мгновенно включается в торги, набавляя цену. Посыльный призывными жестами и интонациями заводит и публику, которая радостно включается в торги и кричит с места: «Семь с полтиной! Восемь! Десять!» «Двенадцать! И подводы мои!» — Штольц выиграл.
Молодой актер, выпускник прошлого года курса О. Табакова, Олег Мазуров играет Штольца напряженным человеком, которому несмотря на уверенность в своей правоте, не найти покоя, пока Обломов останется Обломовым. Будто самый факт его такого существования есть угроза штольцовской правде. О. Мазур выдерживает и отсутствие дистанции между зрителями и актерами. У него хорошая, точная мимика, многое умеет передать едва уловимыми движениями, напряжениями рук, покачиванием, переменой интонации. Выдерживает молодой актер и партнерство с опытнейшим и вдохновенно играющим свою роль Вл. Кашпуром. Радостно обнимая гостя, он называет его то Андрюшкой, то Андреем, то Андреем Иванычем, припевает немецкие песенки. После первых восклицаний интонации О. Мазура становятся более жесткими, улыбка, исчезая, обнажает теперешнее лицо. Теперь не нужно вспоминать немецкое происхождение, и Захар, сникая, уходит.
Захар Кашпура неожиданно хрупок, его движения подчеркивают старость и вместе с тем крепость. Он живуч, как живучи клопы, о которых все время рассуждает Захар, и кажется, перевода ни ему, ни привычной жизни, ни клопам не будет. А вот поди ж ты: В конце спектакля он выходит, прижимая к груди старое издание романа «Обломов», ложится на свежезастеленный белой простыней диван, закрывает глаза и, как чеховский Фирс, остается один.
Угаровский Обломов временами чуть ли не князь Мышкин. Он правдив и простодушен до нелепости. Не хочет слушать пения Ольги: вдруг споет плохо, и он должен будет об этом сказать. (Кстати, пение Каста Дивы решено замечательно: Ольга уходит за сцену, и оттуда раздается знаменитая мелодия, так что ни Обломову, ни зрителям краснеть не пришлось.) Иногда кажется, что автору интересно дразнить зрителя, балансируя на грани дозволенного. Так, Обломов излишне старательно и наивно выговаривает Захару, оплошно брякнувшему, что, мол, : знает, куда подевалось письмо, присланное из деревни. И звучит целый монолог, может ли незначительный вершок знать, где письмо, да и откуда ему знать: И так далее, и так далее:
Эпатирующие драматургические ходы иногда компенсируются, иногда усиливаются режиссерскими приемами. Уютная вдова Пшеницына (очень убедительная и органичная, такая, как и должна Агафья Матвеевна, М. Брусникина), кормя Илью Ильича пирожками и поднося ему водку «на смородиновом листу», будто невзначай опутывает Обломова мягкими нитками. Она плавно, неспешно проходит мимо зрителей, вежливо предлагая подержать нитку, будто ткет паутину, в которой и пропасть бедному Илье Ильичу.
Обломова играет актер Алексей Агапов. Он совсем не толст, а просто крупен, широк и высок. Халат ему идет, он подходит ему, соответствует. Вообще этот халат при лаконичности декораций выглядит едва ли не самым ярким пятном на сцене (художник Вл. Максимов, гл. художник театра «Мастерская П. Фоменко»). Это дом Обломова. Фрак стесняет его, он ему узок, и не только из-за размера. В этом Обломове много детского. Его удивляет, почему это другие с таким усердием суетятся, как будто занимаются важным делом. Ведь делом занимается не весь человек, только часть. Зачем же ради части так убиваться?
Ольга Ильинская, как и Агафья Матвеевна, весьма схематична. Они — антиподы во всем. Ольга (студентка Школы-студии МХАТ Дарья Калмыкова) тоненькая, беленькая, непосредственная, не без влияния передовых идей, бойко рассуждает о воле, самолюбии, невозможности для мужчины лени. Это и позволит ей выйти замуж за Штольца, несмотря на любовь к Обломову. Ольга пыталась разорвать сети (буквально!) вдовы Пшеницыной, но тихая и сильная Агафья Матвеевна оттеснила почти идеальную героиню сначала на край сцены, а потом и вовсе из жизни Обломова.
Трижды появляется на сцене доктор (С. Шнырев). Он открыто, может быть, излишне навязчиво разговаривает со зрителями, а с другой стороны, надо же практику расширять. Он все время твердит о том, что назвать болезнь — наполовину ее вылечить. И с замиранием сердца ждешь, неужели скажет про обломовщину! Нет, слава Богу! В конце пьесы, и это едва ли не единственное место, где режиссеру изменяет вкус (или драматургу?), доктора вызывают к Илье Ильичу, когда того хватил удар и он разговаривает, чересчур старательно изображая последствия этого удара.
Доктор с соответствующими ужимками и свойственной новейшей медицинской школе прямотой сообщает, что болезнь пациента несовместима с жизнью, называется она тотус. «А что такое «тотус?» — еле шевеля губами спрашивает Обломов. «Тотус» по-латыни значит «целый», — поясняет врач. «Что же, половинки и четвертинки будут жить, даже осьмушки и шестнадцатые будут жить, а я нет?» — спрашивает недоуменный Илья Ильич. «Да», — бодро и четко отвечает доктор.
«Да-а-а», — только и остается протянуть зрителю, которому ничего не остается как частичность своего существования.
При всей торопливости и схематичности действия спектакль, похоже, очень кстати. Смерть Обломова воспринимается как смерть самой русской жизни. И актеры, и зрители воспринимают спектакль именно так. Огромность этой утраты накрывает зрительный зал. И кажется пустой смешная деловитость и суета, и обломовская правда оказывается родной и единственно возможной.
И Захар, лежащий на диване и прижимающий к груди роман «Обломов», — дает ответ на вопрос «Что делать?».