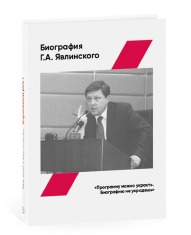Андрей Битов панически боится монументов. И тем не менее он участвует то в открытии памятника Чижику-Пыжику на Фонтанке, то Мандельштаму во Владивостоке. Потому что «хотеть — значит мочь»!
Cамым замечательным событием прошлого года стало для меня открытие памятника Мандельштаму. Думаю, об этом событии мало кто слышал, обидно, — просто потому, что дело было во Владивостоке. Ну, а если о памятнике все же кто-нибудь слышал, то имя автора уж точно в памяти не осталось.
Тут есть своя логика: фамилия его — Ненаживин.
Подумайте, ведь как-то, почему-то эта фамилия произошла, правда? По-видимому, его прадедушка или еще более дальний предок соответствующим образом прожил свой век — и ничего от него, кроме этой фамилии не осталось.
Ничего — или больше чем все.
Такое прозвище выстрадать надо.
Вот и потомок его выстрадал свой памятник.
Скульптор традиционный — но очень хороший. Приехав во Владивосток по делам русского Пен-центра, я оказался у него — и увидел этот памятник, сделанный им 15 лет назад, по существу «в никуда». Ненаживин это сделал — просто потому, что полюбил Мандельштама. Понимаете — полюбил. Больше никаких причин. И сделал, и поставил у себя во дворе, где он все эти годы безнадежно стоял рядом с каким-то пограничником…
Поскольку я писатель из Москвы и впридачу президент Пена, мне, духовному врагу, дали аудиенцию еще более непримиримые между собой Наздратенко и Черепков. И я им обоим легко втюкал, что вот скоро 60 лет гибели Мандельштама, памятника ему в России нет… хотя он есть… и отчего бы не… И моментально от обоих получил «добро». Смешно. Я во власти никогда не был, боялся к ней приближаться — как боюсь приближаться к монументам, крепко помня по классической литературе, чем это обыкновенно заканчивается для простых смертных.
И вот что получается: вроде бы все работает «на минус» — я, дальневосточная власть, осознающая себя империей, бедный Ненаживин, памятник, стоящий во дворе, страшная судьба Осипа Эмильевича… а в итоге — невероятный сюжет.
Открытие состоялось 1 октября — в разгар кризиса, на который наложился впридачу местный кризис, когда Черепкова не допустили к выборам. Но эти все перипетии вдруг — раз — и ушли в сторону перед свершившимся невероятным фактом. И надо было видеть простых людей там, на открытии, какую-нибудь старуху, испуганно глядящую на эту статую, — а потом проникающуюся тем же настроением, что и я: памятник поэту, которого убили за то, что он писал стихи. Надо бы это нашим московско-питерским снобам увидеть…
Все время слышишь о гибели культуры — но кто бы объяснил, о какой культуре идет речь. Где она гибнет — пожалуйста, покажите, ткните пальцем. Ткните. И попадете в Ненаживина…
Есть такое общество «Гулливер». Возникло оно в декабре 87-го года, когда в Голландии собрались интеллектуалы со всей Европы, чтобы совместно подумать, как спасать культуру. Для меня, невыездного, все это были свежие дела. То, о чем говорилось на первой встрече, пошло в итоге прахом — через два года пала «Берлинская стена». Однако важно, во что это солидное начинание выродилось.
Меня тогда поразила самонадеянность этих интеллектуальных сливок, среди которых я вдруг очутился: они были настолько уверены в том, что они европейцы, а кроме них больше никто, что даже не вспоминали о географии — что албанец или исландец, они тоже в Европе живут. И я, набравшись наглости, сказал: «Знаете, ребята, хватит собираться в Париже, давайте по углам поездим. Есть такой хороший город Петербург. Или Стамбул — между прочим, Европа. Можно в город Софию съездить. Потом в Лиссабон и в Рейкьявик. Ну, а потом уже в Париж…»
И это как-то их зацепило. Люди умные, сообразили: почему бы в самом деле не понять наконец, а что это такое — Европа. И процесс, как ни странно, пошел. Была встреча и в моем родном Петербурге, в 90-м году. Совпала она с пятидесятилетием Бродского, и я думал туда его заманить, устроив дело таким образом, чтобы приглашение шло от голландцев, а не от наших. Как была, говорят, в 60-е годы идея пригласить в СССР Набокова — на конгресс энтомологов, поскольку он прославился, кроме «Лолиты», еще и тем, что собирал и изучал бабочек. С Набоковым ничего не вышло благодаря бдительности советской власти, а с Иосифом — по его собственной бдительности. Не принял он от меня эту карту. Наверное, правильно. Чтобы такие штуки случались, много разных векторов должны совпасть…
До Лиссабона и Рейкьявика не дотянулись, зато попали в Бухарест, где очень уж Европа, как и мы.
Вот такое получилось варево. Но самое интересное — даже не то, что это клуб на колесах. А то — что видишь, как один и тот же человек в зависимости от пейзажа и культурного контекста меняется. То есть живет.
Говорю я это все вот к чему. На недавнем очередном съезде «Гулливера» — надеюсь, читатель врубился в смысл названия — в моем любимом Амстердаме говорилось о какой-то замечательно умной и размытой проблеме, не помню какой, а я только-только из Владивостока. У меня сдвиг во времени был — все-таки полземного шара… и еще вдобавок едет крыша от того, что Осип Эмильевич там, на берегу Тихого океана, стоит. И я сделал там сообщение с хулиганским названием «Почему я больше не интеллектуал».
Я объявил название — они все напряглись. Им стало дико интересно — почему. И я им рассказал. Рассуждать, разговаривать, вести дискуссии — это все, конечно, приятно. Ничего тут плохого. Но когда ты что-то можешь сделать — рассуждать не надо. Мне это счастье — что-то сделать — довольно поздно было подарено, к шестидесяти годам. Если ты чувствуешь, что должен и что можешь — и делаешь, и видишь, что получилось… о, это упоительно!
Задумаешься: сколько таких негодников, как я, в России, и бессмысленность их существования только в том, что их не допускают до живого дела. Мы крестьянская нация, а главная черта крестьянина — то, что ты сегодня должен непременно вот это сделать, иначе жизнь пойдет наперекосяк! Ты не можешь не распахать землю, не подоить козу, не напилить дров — по определению. Невозможно! Когда ты живешь в деревне и утром слышишь спросонья: аборигены, как мыши, начали копошиться по хозяйству — тебя оторопь берет. И ты с тоской думаешь, скольких же людей этого их природного дара лишили…
Женщина — она глубоко укоренена и защищена тем, что рожает. А мы, русские мужики, оказались лишены не просто свободы — высшего воплощения своего. Что остается? Либо ты шофер (баранку-то не выпустишь — иначе разобьешься) — либо милиционер. Или наихудший выбор: либо ты вор — либо сидишь на стуле. Недавно попал на одно солидное собрание: длинный стол, стулья, на стульях мужики. Я тоже сел с краю, посмотрел, зажмурился — и увидел: их же никого нет! Ни одного человека! Через пять лет фамилий их не вспомним. Не потому что они плохие — они в массе как раз неплохие, нормальные. Просто потому, что они — стулья…
Так было и будет, Бог с дьяволом не разберутся. Это почти безнадежно.
Почти. Одна дорога нам остается и выход один.
В Ненаживины.
Постоянный адрес статьи: http://www.ropnet.ru/ogonyok/win/199905/05-54-55.html