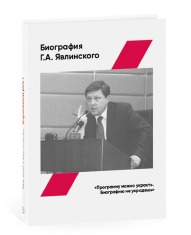Он ходил по беленым, белесым санаторным коридорам Дома творчества то с костылем, то на протезе, на деревянной ноге.
И как бы он ни ходил — он всегда летел!
Человек, у которого нет ноги (так сильно, длинно нет ноги — Тарковский потерял ее на фронте), — летал. На костылях — приобретал крылья. Они не воспринимались уродливыми пристройками, конструкциями: словно птица просвистит мимо, взмахнет мощным, пустотелым, узким, как у ласточки, скелетом крыла!
Пусть даже эти крылья деревянные, на шарнирах, на скрепах. Как самодельные. Как крылья Мужика-Глазкова в фильме его сына.
В общем, говорили, что в обличье у поэта нечто птичье… Я и говорю: он был тощий, немножко нахохленный и изумительной красоты.
Сам он подметил все это за Мандельштамом.
…Жена Арсения Александровича мне рассказала, как увидела его в первый раз. Кажется, еще до войны.
Первая влюбленность была оттого, что он не встал — а вспорхнул.
Наши отношения были очень теплыми, очень дружескими — и не обязывающими ни к чему. Я с ним встречался в Переделкине. А до того достаточно протяженно был знаком с Андреем, его сыном.
Мне нравилось заниматься такой вот антропологией: смотреть, в мыслях совмещая с лицом Арсения Александровича, — Андреево лицо, как бы асимметричное. Сын был такой — весь элегантно асимметричный. Скула в один бок, подбородок в один бок, неровно как-то… Я уже о нем говорил — гасконец.
А рядом — какой-то идеальной красоты лицо отца.
Меня, человека другой генерации, к Тарковскому вели и тоска по отцу, и очарование внешнего вида. Вполне юношеский синдром. Детский даже.
Все время мысль о Тарковском уводит в глубокое детство. За десятилетия до знакомства с ним. После войны, когда на улицах появились первые автомобили — трофейные иномарки, — я уверился, увидев однажды раскрытый капот (у них ведь внутри был вентилятор), что битый-перебитый студебеккер движется с помощью пропеллера. И еще — выхлопной трубы.
…Видимо, было детское предчувствие, детский страх: любым способом, но не этим чудовищным способом двигателя внутреннего сгорания!
Но двигатель внутреннего сгорания внутри. И у студебеккеров, и у поэтов.
А снаружи-то — крылья, пропеллер. Хвост. И — прочерк этого летания по коридорам в казенном доме.
Еще Тарковский — это изумительной красоты глаза. Орехово-золотистые глаза и необычайная… нет, это не была сдержанность.
Он как раз вовсе не был сдержанным человеком. А в то же время не тратил время вовсе ни на что лишнее.
Я тогда был в запрете. И все-таки сотрудницы Литфонда — до сих пор я им благодарен — помогали. Вот приехать в Переделкино… Я предпочитал жить в деревянном коттедже. Потому что не любил толпу. А там можно было даже по блату получить комнату, прилегающую к веранде. К деревьям.
Тарковский жил, как правило, в корпусе. Так было ближе ходить в столовую. Но вот биллиардная была наверху. А он приходил.
Меня восхищало, как этот господин, этот человек (который мне тогда уже казался пожилым, а то и достаточно старым) любил приходить туда, где собирались шахматисты, или в биллиардную — и смотрел, как люди играют.
Подолгу. Видимо, это занятие он не считал пустым.
…Пока вспоминал, придумал формулу текста. «Текст — это кратчайшее расстояние от слов до смысла». Связанность всех слов друг с другом — вот что такое текст.
Но он — этот стареющий, летающий господин — свое кратчайшее расстояние всегда пробивал сквозь камень. Сквозь скалы. Жестко, как в латах, себя и строку держал. Может быть, даже себя засушивал. Подавлял нерожденные еще стихи — как музыкант со слишком абсолютным, космическим слухом, которому именно из-за этого трудно играть!
А Тарковский в стихах из-за своего абсолютного, космического слуха к слову доходил до такой прозрачности, до такой тональности, до такой гаммы цветовой, когда все в строке только голубое, белое, серебряное.
…Я могу рассказать одну историю. Наверное, Арсений Александрович ее рассказывал всем, но я ее очень подробно запомнил.
Он, как многие талантливые поэты, скрывался в 1930-1950-х за переводами. Впрочем, и до и после скрывались. То, что мы горды качеством наших переводов, означает только то, что люди должны были отказывать себе в собственном творчестве.
У нас и Мандельштам в 1920-х Майн Рида переводил.
Вообще… однажды другой великий поэт, Борис Слуцкий, сказал:
— А я знаю, что такое счастье!
— Что?
— Счастье — это тыща строк подстрочника верлибра.
Тарковский тоже ценился как переводчик.
…1949 год. Готовится вся страна. С одной стороны — к 150-летию Пушкина, с другой — к 70-летию Иосифа Виссарионовича.
И скорее даже — в обратном порядке значимости.
И вот Арсения Александровича вызывают куда надо. Вероятно, в 1948-м или в начале 1949-го.
Тарковский, как человек интеллигентный и происхождения не рабоче-крестьянского, вполне мог испугаться. Не знаю. Но — пошел. Явный чекист его встретил, но комната была ближе к Кремлю, чем к Лубянке.
Маленькая такая комнатка, где сидит один человек за гладким столом…
Тарковский готов к самому худшему. А ему дают крупный аванс. И роскошный портфель, в котором лежат подстрочники стихов Иосифа Виссарионовича.
Потому что, как известно, и этот человек начинал как поэт. Но ему Илья Чавчавадзе не дал благословения — и он пошел в революцию.
А то бы был грузинский поэт того или иного разлива…
Итак, переводы. С одной стороны — облегчение, а с другой — такие предложения не обсуждаются. Велено никому не говорить. Ни одной бумажки не терять. Все вернуть вместе с черновиками!
И Тарковский понимает, что подписывает себе приговор. Потому что, если он напишет лучше, чем Иосиф Виссарионович, будет плохо. Если точно так, как юный вождь писал, — еще хуже… Если в чем-то неточность — опять плохо.
— В общем, — он говорил, — я страдал-страдал… И одно стихотворение — это было чудо переводческой техники — просто слово в слово уложил. И продолжал страдать. Подстрочников было еще много.
Потом его вдруг вызвали преждевременно в ту же комнатку. «Все. Берите черновики и приходите».
Он приходит туда, зная, что не закончил…
— Вы все принесли?
— Все.
Достал черновики из портфеля, они посмотрели, отложили и говорят: «Вы знаете, Иосиф Виссарионович такой скромный человек, что он этой книжки не захотел. Все остается между нами».
И он от облегчения, от растерянности спрашивает: «А портфель?»
— Берите.
— Таким образом, — заключал Тарковский, — у меня остался от этого дела аванс и изумительный портфель.
Но вообще он чаще молчал, но молчал, по-моему, восхитительно. Однако он именно общался молча.
Ты сам поговоришь-поговоришь, при этом он не проявит никакого нетерпения. И вдруг почувствуешь, что уже наговорился.
Такое впечатление, что никогда не говорили о литературе. Но на деле только о ней и говорили.
Он знал себе цену. Знал поэзию, знал цену поэзии.
Сын был тогда чрезвычайно знаменит. А отец — хорошо известен в узких кругах. Обойма мнений имела о нем мнение…
В Доме творчества какие-то трогательные люди, впрочем, даже писали стихи о том, как Тарковский кормит птиц. Я же относился к нему (сейчас мне так кажется, тогда не казалось) как-то слишком запросто.
Потому, что он позволял так…
Конечно, более молодой автор больше погружен в переживание собственных текстов. И старшего, более умудренного, относит автоматически к тем, кто все уже прошел.
А на самом деле, я думаю, люди ужасно нуждались в том, чтобы с ними поговорили. Чтоб их послушали. Он явно доверял мне.
Я сейчас могу сказать, что я его доверием не воспользовался.
Может быть, и не мог. Он был более тонким существом, чем я! С возрастом начинаешь понимать, что слишком много тобой расставлено защит. Бронировок.
Считалось, что я — тонкий человек. На самом деле — нет. Недостаточно тонкий — для него.
Но именно это я в нем и ценил.
И осталось — как он летает, как он тратит время, как хранит свое достоинство. Как он сдержан — до такой простоты и такой скромности. Якобы простоты и якобы скромности.
…Люди только на тех и делятся: кто с кем недодружил.
Что за фраза: «Они любить умеют только мертвых…»!
Со знанием дела сказанная.
ов Арс. Тарковского, посвященных Мандельштаму
Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь…
Из стихов, посвященных Арсению Тарковскому
РАЗГОВОР
— Пошто, собрат
Арсений,
Нет от тебя гонца,
Ни весточки весенней
Ни почтой — письмеца?
— А я сижу на тучке,
Здесь дивные места,
Да жалко — нету ручки
Для синего листа.
— Но раз меня ты
слышишь,
Пришлю я сизаря,
Крылом его напишешь
Про дивные края.
— Живу я на воздусях,
Где все, как мир, старо.
Пришли мне лучше с гуся
Державина перо.
— Про этот мир,
Арсений,
Все сказано, а твой —
В прекрасном
отстраненье
От плоти мировой.
— И здесь ранжир
устойчив
Не плоти, так души:
Грущу о звездах ночи, —
Как вспомню: хороши!
— Неужто нет
в пределе
Твоем цариц ночей?
Скажи, и в бренном теле
Наш дух звезды ярчей?
— Дух светится
незримо.
Слова имеют вес,
А ты неизлечима
От шелухи словес.
— Спрошу тебя
попроще,
Однако, не грубя:
Там, где Господни рощи,
Кем чувствуешь себя?
— И здесь, под райской
сенью,
Я убедиться мог,
Что я, Его творенье, —
Царь, червь, и раб, и Бог.
— И звездочет! И вправе
Был вывезти в гробу
Свою, в стальной
оправе,
Подзорную трубу.
— Без груза спать
удобней,
Да я и не ропщу, —
О звездах, как сегодня,
Я изредка грущу.
— Но лишь звезда
о крышу
Споткнется в тишине,
Во сне тебя я слышу.
— И я тебя — во сне.
Постоянный адрес статьи: http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/12n/n12n-s32.shtml