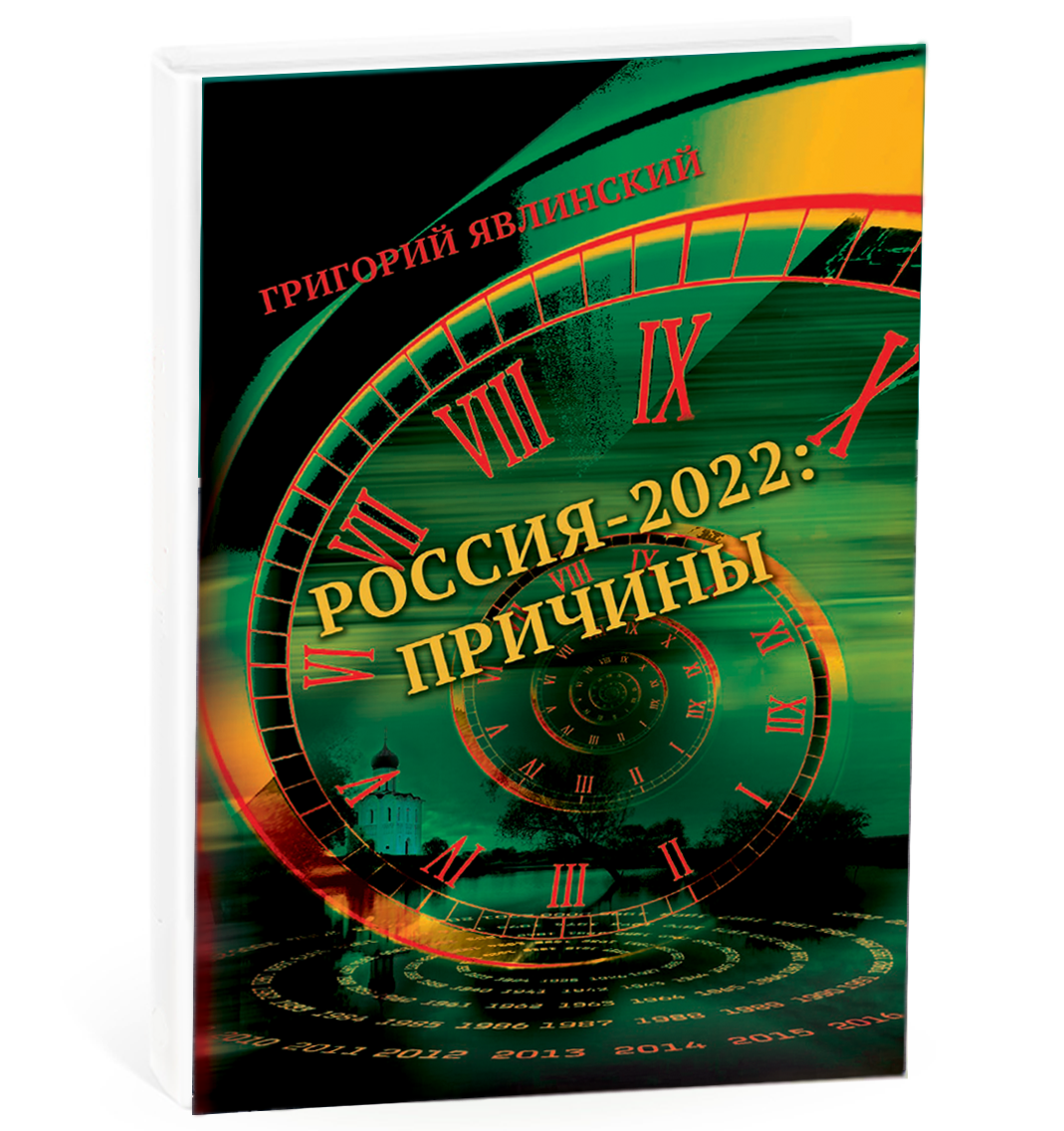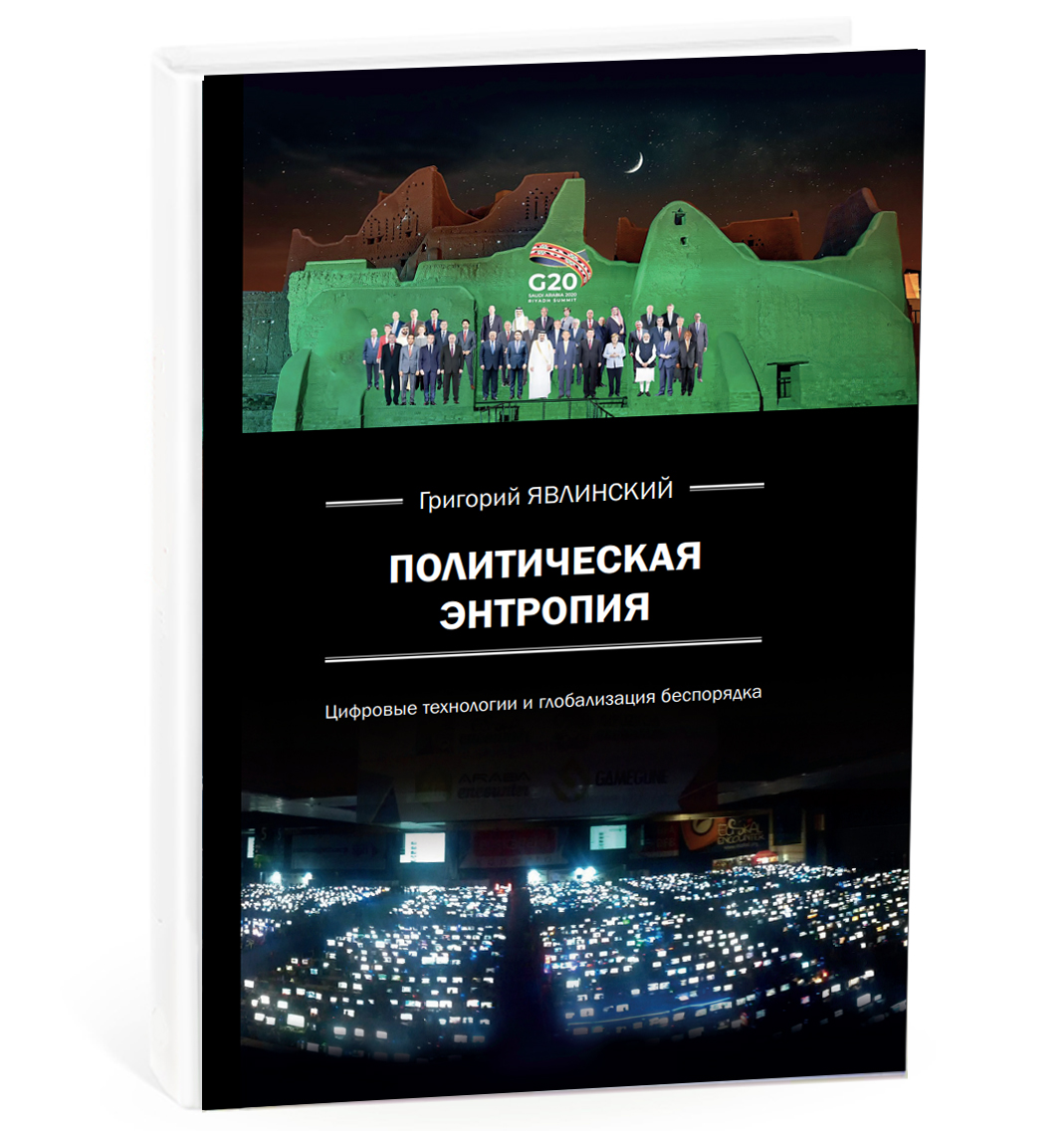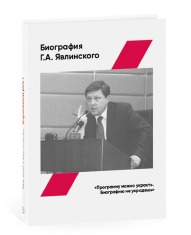О том, какие уроки можно извлечь сегодня из нашей недавней истории и какая связь между нереализацией программы «500 дней» и нынешними событиями, говорил в новом интервью цикла «Дорога в будущее».
Ксения Свердлова: Здравствуйте! Это «Дорога в будущее», серия бесед с политиком и экономистом Григорием Явлинским. Меня зовут Ксения Свердлова, мой соведущий – Григорий Гришин.
Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Григорий Явлинский: Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Григорий Гришин: Тридцать пять лет тому назад появилась амбициозная экономическая программа «500 дней», появилась и приобрела сразу всесоюзную известность. Она обещала начать переход от неработающей плановой экономики к рынку.
Сейчас с этой программой связано много мифов. Кто-то считает, что в этой программе обещалось что-то вроде шоковой терапии; кто-то говорит о том, что за 500 дней вы обещали, что все мы будем жить как в Швейцарии; а кто-то вообще считает, что программа была полностью реализована Егором Гайдаром…
Ксения Свердлова: Эти и другие мифы, на мой взгляд, подчеркивают значимость, ключевую роль экономических реформ в трагических событиях, приведших к распаду СССР и во многом определивших будущее России вплоть до наших дней. Давайте подробно поговорим про программу «500 дней» и узнаем, что было на самом деле, а что – выдумка.
Григорий Алексеевич, в чем заключалась основная суть программы «500 дней»?
Григорий Явлинский: Программа «500 дней» говорила, что день за днем нужно делать, для того чтобы трансформировать плановую экономику в эффективную рыночную и при этом чтобы потери, особенно уровня жизни населения, были насколько возможно небольшими. То есть это была концепция, объясняющая, что должны делать государственные структуры, которые существовали на тот момент, для того чтобы перейти от одного уровня к другому, но не просто к уровню, а к качеству устройства экономики.
Естественно, ключевым моментом была частная собственность, поскольку частная собственность была институтом, который был полностью исключен из реалий (как вы знаете, были жесткие репрессии, давление начиная с 1917 года). Поэтому переход к частной собственности… А программа предполагала перейти к частной собственности таким образом, чтобы частная собственность после того, как она становится вашей, была абсолютно неприкосновенной, просто неприкосновенной, это ваша собственность и все.
Особенность заключалась в том, чтобы синхронизировать действия всех ключевых структур государственного управления как на союзном уровне, так и на республиканском и двигаться к этому переходу.
Конечно, очень важно мне подчеркнуть и вам сказать, что за 500 дней не предполагалось создать новую экономику, эффективную и т. д., а за 500 дней предполагалось сделать переход от одного состояния в другое с минимальными потерями для населения. Потери бы были все равно, но чтобы они были не слишком большими, не критическими и чтобы сохранялась перспектива.
Теперь. Почему 500 дней? Потому что дальше уже не видно было, дальше уже было непонятно, что дальше делать. И следующая часть перехода, следующая часть реформ должна была быть создана по ходу реализации этих.
Как эти программы реализуются, возникает представление о будущем: какие структуры можно ликвидировать, какие новые структуры нужно создавать, какие нужно принимать решения; в тех случаях, если что-то не удалось, нужно будет зайти на эту тему еще раз… Надо было видеть, что реально можно будет выстроить, увидеть, что можно будет выстроить, а что не получается, тогда нужно еще раз…
И вот более-менее очевидная программа действий была видна на 1,5 года, даже меньше, на 400 дней. Это уже Борис Николаевич придумал 500, потому что он хотел, чтобы так оно красиво выглядело… Ну, 500 и ладно, пусть будет 500.
Но суть вот была именно такая: как перейти от разваливающейся плановой экономики к рыночной экономике и при этом сохранить страну, сохранить людей, сохранить надежду, сохранить перспективу, сохранить Академию наук, сохранить крупнейшие структуры, которые занимались космосом, атомными станциями, еще чем-то… Это была очень непростая такая вот история. Вот в этом и был смысл вот этой программы.
Тема эта вообще возникала во многом в связи с тем, что появился такой Борис Николаевич. Появилась тема российского суверенитета какого-то там, выделения российской республики, РСФСР, отделения ее так или иначе (это 1990 год), и ее влияние политическое и влияние политическое Ельцина с его идеями, которые он предлагал, – они, конечно, тоже играли большую роль, поэтому в этой программе особое внимание уделялось взаимоотношениям с республиками. Вот это был такой экономический план.
Но здесь я должен подчеркнуть одну тему, о которой никто почти не говорит: вообще говоря, это экономическая программа, а политической программы на тот момент не было вообще, и в этом была ключевая проблема.
Так сложились обстоятельства, я тогда работал заведующим экономическим отделом в Совете министров СССР. (Это была структура реформ, там был экономический отдел, я его возглавлял.) Я начал там работать в 1988 году, и я довольно быстро столкнулся с проблемой взаимоотношений с республиками. Чем больше появлялось демократии, которую давал Горбачев, тем сложнее было работать союзному министерству с республиками.
И осенью 1988 года я пришел к Николаю Ивановичу Рыжкову, который был премьер-министром, и сказал ему: «Николай Иванович, мне очень сложно работать с республиками». – «И что?» – он говорит. – «Нужен новый Союзный договор». Вот он очень удивился такому предложению: «Что вы имеете в виду?» – говорит.
Я говорю: «Вот смотрите, Союзный договор был подписан в 1922 году, после гражданской войны, под Красной армией. Если сейчас речь идет о демократии (а это 1988 год), если речь идет о свободе, о демократии, о том о сем, ну так нужен другой Союзный договор, не такой. И вообще, все изменилось за столько лет, за 60 лет все уже поменялось – нужен уже другой Союзный договор. У меня к вам просьба, Николай Иванович: пожалуйста, переговорите с Михаилом Сергеевичем на эту тему, потому что ничего важнее сейчас нет». На этом мы и распрощались.
Через месяц или полтора я в очередной раз докладываю что-то там и говорю: «Николай Иванович, извините, была возможность у вас переговорить с Михаилом Сергеевичем относительно нового Союзного договора?» Он мне отвечает: «Понимаете, Григорий Алексеевич, Михаил Сергеевич очень занят: у него командировки, у него делегации, у него политбюро, у него секретариат, у него… В общем, он очень-очень-очень занят». И я помню, как я иду по коридору к себе в кабинет и думаю: все. Если руководители не понимают проблему главную, будет нескучно.
И отсюда появилась идея: ну ладно, это они не могут сделать – давайте сделаем экономическую программу. Если мы сделаем грамотную экономическую программу… а к «500 дням» потом, через год, была добавлена программа, связанная с Экономическим союзом… мы выйдем на новый уровень государственного образования, он будет другой, но содержание, экономическое содержание, стержень сохранится и будет иметь перспективу.
Поэтому программа эта реализовывалась и была предложена уже в некотором, если можно так выразиться, проблемном состоянии, а проблема заключалась в том, что без Союзного договора попробуй ее реализовать. Ну и потом мы с этим столкнулись уже вплотную.
Ксения Свердлова: Григорий Алексеевич, вот вы сказали, что руководство страны политическую проблему не видело, – а экономическую проблему оно видело в том, что плановая экономика себя исчерпала? Потому что вы столкнулись, насколько известно, с большим аппаратным сопротивлением при попытке реализации этой программы.
Григорий Явлинский: Ну, аппарат-то был прежний… Если говорить откровенно, он был в растерянности. Собственно, продвижение программы «500 дней» было во многом связано с тем, что структуры госплановские и даже Министерства финансов, Госснаб – они были в растерянности. Они видели, что не работает, система не работает, перестает работать.
Например, с чем уже потом сталкивались в 1991 году? Вы знаете эти картинки магазинов, пустые прилавки… Да, но особенность-то в чем? Все было. Когда начинают рассказывать всякие рассказы, что все чуть не умирали от голода, это неправда – просто все продавалось из-под полы, совсем по-другому. То есть рынок шел снизу, и смысл этой программы был в том, как это сделать грамотно, чтобы все это лежало на прилавке, чтобы все это работало. Вот в чем была ключевая особенность этой программы, вот это и есть ответ на ваш вопрос.
Ну а большинство чиновничества просто не понимало вот этот новый какой-то переход к чему-то, поэтому они либо были нейтральными, большинство из них держало нейтралитет, ну а некоторые возражали, имея в виду какой-то такой постепенный переход, более постепенный, более медленный, но даже не переход, а какие-то… К этому относились Николай Иванович Рыжков и Леонид Иванович Абалкин, они очень сдержанно себя вели по отношению к этому. Ну а, конечно, программа «500 дней» во многом была радикальной; она не была шоковой, но она была существенной, глубокой.
Григорий Гришин: Вот ее каким-то образом, в отличие от экономистов, понял Борис Николаевич Ельцин, он принял ее. Как она вообще попала к Борису Николаевичу? Я знаю, что есть такая сложная история, связанная с ее судьбой.
Григорий Явлинский: Борис Николаевич увидел в ней альтернативу политике Горбачева и все, ему этого было достаточно, что бы там ни было написано. Там это было все равно, что там написано, если по большому счету.
Как она к нему попала? Попала она к нему так. Я поехал по работе в командировку, и один из сотрудников моих украл ее из сейфа и отвез в аппарат Бориса Николаевича, и передали это человеку, который хотел быть премьер-министром. Он ее показал Борису Николаевичу, и Борис Николаевич неожиданно на Съезде народных депутатов уже РСФСР вдруг сказал, что у него есть программа, экономическая программа «500 дней» и через 500 дней все будет уже хорошо.
Мне позвонил Евгений Григорьевич Ясин, сказал: «Это о чем? Это о вашей программе речь?» Я говорю: «Я не знаю». – «А как она туда попала?» Я на следующий день поехал и все вот это узнал, что ее просто украли, отдали… Я встретился с этим человеком, которому это отдали, и сказал: «Ну что ж, как же… ?» Он сказал: «Да, может, неудачно… Вы знаете что? Вы завтра встречаетесь с Борисом Николаевичем». Ну и все, мне назначили на следующий день на 7 утра встречу с Борисом Николаевичем Ельциным.
Я пришел к нему… (Я первый раз, я же был заведующим отделом Совмина СССР.) Я пришел к нему, он очень доброжелательно меня принял. Я сказал: «Борис Николаевич, тут надо понимать: эта программа союзная, поэтому то, что вы ее представили на республиканском съезде, когда республике в основном принадлежат химчистки (в основном; это я шучу, конечно, но в основном)… Эта программа другого совсем масштаба. У Российской Федерации нет ни валюты, ни денег, ни финансовой системы собственной, ничего этого нет». И он мне очень интересно ответил. Он сказал: «Меня это не интересует. Делайте так, чтобы программа работала для Российской Федерации, идите и делайте». Ну и все, вот так началось мое сотрудничество с Борисом Николаевичем.
Я потом сидел и действительно думал: а вот что, что я могу сделать, если ничего нет своего?.. Нет собственной экономики, она была в Российской Федерации еще более ограниченная, чем в Украине, например, или в Белоруссии, потому что там-то все-таки была союзная республика и у нее были все структуры, а в Российской Федерации были союзные структуры, а республиканские были очень… Ну потому что республика представляла Союз, она и была сердцем Союза, поэтому внутри этой системы республика была такая, скромная. Ну и какую тут экономическую программу можно сделать?.. И вот передо мной встала вот эта проблема, что же с этим делать. Ну и вот все дальнейшее продвижение по этой линии было связано вот с этим.
А через некоторое время он предложил мне должность заместителя председателя правительства России. Тогда еще сложнее стал вопрос, что же с этим делать. Что я придумал? Я придумал убедить Бориса Николаевича в том, чтобы делать совместную программу, республика и союз. Я говорил ему: «Давайте, делайте это вместе с Горбачевым, тогда это имеет смысл. Пускай Российская Федерация будет главным инициатором, главным инициатором экономических реформ. Вы, Борис Николаевич, будете главным». И он согласился.
Ксения Свердлова: Еще бы.
Григорий Явлинский: И он предложил Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич, видимо, почесал затылок и сказал: «Хорошо. От меня этим займется академик Шаталин, он мой советник по экономике».
Ну и так сформировалась вот эта группа, и она разработала уже не концепцию, а она разработала пакет, состоящий из двух частей: собственно программу действий и пакет законов, как союзных, так и республиканских проектов законов, которые должны быть приняты, для того чтобы реализовать эту программу. Собственно, вот эта разработка этого пакета законов и превращение концепции в конкретный план действий – это и была работа над программой. Шаталин представлял Михаила Сергеевича, Станислав Шаталин и Николай Петраков, они очень крупные ученые, а я представлял Бориса Николаевича и Российскую Федерацию.
Ну все, мы создали довольно большую команду и в течение около 2 месяцев разрабатывали пакет, и так была создана уже не концепция, а уже программа конкретная. Но она соответствовала концепции «500 дней», т. е. вся логика того, что было сказано, что нужно сделать, первое, второе, третье и т. д., как это все должно быть устроено, – это уже было реализовано в цифрах, потому что мы получили доступ ко всем экономическим базам данных, ко всему, что было нужно, для того чтобы разрабатывать это. И Шаталин и Петраков открывали нам двери, они были ближайшими советниками Михаила Сергеевича Горбачева и могли открыть двери в любом ведомстве и т. д. Еще были привлечены представители республик…
И потом, когда это все было завершено, появилась вот эта моя статья «Человек, свобода, рынок», которая объявляла о появлении этой программы и говорила, куда она идет. В заголовке были главные смыслы: человек, свобода и экономика.
Я первым делом докладывал эту программу и пакет документов, пакет законов в Верховном Совете СССР, и они все это опровергли, они отказались от этой программы.
Ксения Свердлова: Почему?
Григорий Явлинский: Николай Иванович Рыжков, Леонид Иванович Абалкин, а в наибольшей степени Евгений Максимович Примаков уговорили Михаила Сергеевича отказаться от этого, потому что это потеря той системы, которую возглавляет якобы Михаил Сергеевич, социалистической системы, если уж всерьез [говорить]. А это то, что нужно было Борису Николаевичу. Через неделю после этого я стал докладывать эту программу уже на Верховном Совете РСФСР, ну и через еще 2 или 3 недели Верховный Совет РСФСР почти единогласно принял и поддержал. И конфликт начал нарастать.
Еще раз я хочу обратить внимание: вот поскольку не был решен вопрос о новом Союзном договоре, появилась вот эта идея, что советские республики сейчас разбегутся в разные стороны (как они есть, только разбегутся в разные стороны), и уже политическая структура оказывалась под сомнением, а следовательно, и экономическую программу очень сложно было изобразить для такого положения дел.
Ксения Свердлова: А как программу оценивали экономисты и политики Запада?
Григорий Явлинский: В начале октября проходило очередное ежегодное совещание Международного валютного фонда и Мирового банка. В 1990 году оно происходило в Вашингтоне, и я был приглашен в Вашингтон, чтобы на полях этой встречи МВФ и Мирового банка доложить эту программу. (Это был первый случай в моей жизни, когда я приехал в Соединенные Штаты.) Я приехал, 4 дня я докладывал.
Там наняли несколько десятков переводчиков (потому что программа же большая), они ее перевели за несколько дней буквально, ну а потом 4 дня я докладывал эту программу. Ее обсуждали ведущие специалисты, как специалисты, работающие в этих органах, так и, что для меня было особенно важно, ученые. И через 4 дня итог был, что программа хорошая, признается.
И для меня было вот очень важно, когда на заключительной сессии всемирно известный венгерский специалист, профессор Янош Корнаи, которого я очень уважал, сказал: «Это, пожалуй, лучшая экономическая программа перехода от плановой экономики к рыночной». Для меня это было очень важно и ценно. Поэтому западные специалисты – специалисты! – собственно, эту программу оценили очень хорошо.
Например, председатель Международного валютного фонда на вечернем таком типа банкете спросил меня: «А почему в вашей программе нет кредитов МВФ?»
Григорий Гришин: Ага.
Григорий Явлинский: «Почему?» Я говорю: «Потому что не надо, мы справимся». Но это был 1990 год, лето 1990 года, мы не были членом МВФ, это же Советский Союз, а уже через год ситуация изменилась.
Григорий Гришин: А что произошло за этот год?
Григорий Явлинский: Просто, поскольку экономика-то не работала…
Григорий Гришин: Совсем…
Григорий Явлинский: Вот она не работала. И поскольку там меняли денежные купюры, инфляция, производство тормозилось… Но это уже обсуждение следующей программы, уже было лето 1991 года.
Григорий Гришин: Вот да, есть же связка между «500 днями» и вашей следующей программой «Согласие на шанс», о которой мы говорили в нашей прошлой программе.
Григорий Явлинский: Да, вот поэтому она и появилась. Потому что уже чтобы соблюсти параметры (а именно соблюсти параметры качества жизни, чтобы не было катастрофы, чтобы не было резкого падения), уже понадобилось сделать еще один шаг, а именно разрабатывать следующую часть программы. Это, если совсем по-простому говорить, такой план Маршалла, который был использован после 1945 года, для того чтобы вытащить Европу из военного и послевоенного развала. Так вот «Согласие на шанс» была аналогия вот этого вот… Ну, она совсем другая, по содержанию ничего общего не имела, но политически, по сути дела, это была вот такая программа.
Это была программа, которая говорила о том, как [осуществить] вхождение в мировую экономику с учетом того, что мировая экономика заинтересована в том, чтобы Россия, Советский Союз были в нормальном состоянии и положении, как выстроить эти отношения. И уже эту программу я действительно разрабатывал вместе с американскими специалистами. Об этом Горбачев договорился тогда со старшим Бушем, который был президентом, о том, что вот мы разрабатываем такую программу и она тоже нужна.
Но и судьба этой программы из-за окружения Горбачева оказалась под угрозой, и он от нее потом… Ее мы сделали, она была опубликована уже – он от нее тоже отказался опять. Правда, и американцы, вот судя по секретным протоколам, поскольку считали программу хорошей, удачной, отказывались от ее реализации и думали о том, как сделать так, чтобы это не было реализовано и чтобы «семерка» не согласилась на то, чтобы давать кредиты или давать деньги Горбачеву, чтобы он мог реализовать успешную программу. Поэтому его поездка в Лондон оказалась бессмысленной. Но он туда повез программу Примакова.
Григорий Гришин: Да. И говорят, что Миттеран даже спрашивал у Горбачева: «А где Явлинский?»
Григорий Явлинский: Да, они все спрашивали, потому что я с ними со всеми встречался. Потому что там была двусмысленность такая, что американцы давали мне возможность разрабатывать программу, а потом у меня была возможность встретиться со всеми лидерами (кроме канадцев и японцев, я со всеми пятью лидерами разговаривал), а в то же самое время они проводили другую политику, чтобы Горбачев от нее отказался и взял другую программу, которую «семерка» не поддержит. Вот так и была разыграна эта конструкция.
Не слушайте иностранных политиков – слушайте только специалистов, только ученых, а политиков не надо слушать. С ними надо дружить, быть в хороших отношениях, но вести себя нужно в соответствии с вашими представлениями о том, что делать в вашей стране. Это как в жизни: с соседями в вашем доме нужно быть в хороших отношениях, но свою семью нужно строить самим, а не по указанию соседей, понимаете. Так и здесь.
Это очень важное обстоятельство: не нужно слушать. Надо быть в прекрасных отношениях со всеми, с кем можно быть в прекрасных отношениях, но слушать их не надо – надо собственной головой принимать решения о будущем, о той экономической программе, которая нужна, и именно так и действовать.
Ксения Свердлова: Вы разработали блестящую экономическую программу, но действовали в 1990-е как экономист, признавая теперь, что этого недостаточно, да, нужна была еще и политика. Были ли у вас вообще объективные возможности в то время заняться политикой?
Григорий Явлинский: Нет, ничего у меня такого не было. Я, во-первых, этого не понимал, а во-вторых, я был абсолютно далек от этого. Политика… Вот Борис Николаевич – да, это была действительно реальная, серьезная политика. Вот то, что он делал, кому-то может нравиться, кому-то – не нравиться, но это была содержательная, серьезная, открытая, настоящая политика, и он поэтому все и выиграл в тот момент.
А я уже занялся политикой после 1993 года, после того как реформы – другие совсем реформы, принципиально отличающиеся от программы «500 дней» (и сейчас я могу объяснить, в чем было это ключевое отличие), – привели ни больше ни меньше к расстрелу парламента, представляете, из танков. Это осень 1993 года, это очень серьезное дело.
А вот ключевое различие, может быть, оно пригодится кому-нибудь понимать… Я только одну деталь скажу. Например, программа «500 дней» предполагала, что за деньги, накопленные за советское время… (А было немало людей в России, вы это знаете, у которых были более-менее какие-то сбережения: на то время 5 тысяч, 6 тысяч, 10 тысяч – это огромные были деньги, автомобиль стоил 2–3 тысячи, это были серьезные деньги.) Так вот предполагалось, что мелкую и среднюю частную собственность – настоящую частную собственность, личную – вы можете покупать. И когда вы ее приобрели, допустим, вы вместе с вашими сотрудниками в магазине…
Вот, например, я когда работал заместителем председателя правительства России, эти все решения не были приняты (они были приняты парламентом, но они не были еще реализованы), ко мне приходили люди… Например, приходил ко мне директор большого московского хозяйственного магазина, он у меня спрашивал: «Григорий Алексеевич, скажите, вот мы можем выкупить этот магазин?» Я говорю: «А как вы его будете выкупать? У вас что, есть такие деньги?» – «А мы соберем всех, кто работает, мы сложимся, мы поделим проценты, кто сколько, и выкупим магазин». Так вы можете себе представить, год назад он ушел на пенсию: они выкупили магазин, и это был частный магазин, и потом там много чего делали-переделывали, но они работали 30 лет вот с нуля. Вот как пример я вам говорю.
И когда вот эта программа начала двигаться, это стали разрабатывать во всей стране, понимаете. И это был первый шаг: если вы выкупаете этот магазин, пожалуйста, вот тогда вы можете устанавливать там такие цены, как вы хотите, потому что вы уже находитесь в конкуренции. Это то, что предлагала программа «500 дней».
А о том, как это реализовать, выдающийся человек, с разных точек зрения выдающийся Сергей Иваненко выработал, разработал первый закон о приватизации. Он даже не назывался еще [так], это был январь 1991 года, он еще даже не назывался «О приватизации» – «О возможности приобретения гражданами прав собственности» и т. д.
А вместо этого всего предложили совсем другой путь. Суть его заключалась в том, чтобы в один день – буквально в один день, 2 января 1992 года – объявить, что все цены свободные, [можно] устанавливать любые цены в стране, которая 70 лет строила монополии. Какие будут результаты? – понятно, какие: цены просто вырастут до безумия, потому что все монопольное, все монопольное.
Ну вот представьте себе, огромный молокозавод, крестьяне с огромной территории везут туда свое молоко. Им говорят: «Мы покупаем у вас молоко только по такой цене». Они говорят: «По такой цене нам не надо, мы не сможем ничего». – «Не хотите – не надо». А им больше ехать некуда, потому что 70 или 65 лет строились только монополии.
Это была рекомендация Международного валютного фонда. Второго января 1992 года было принято это решение, ну и мы получили инфляцию. Если инфляция в декабре 1991 года была 12–14% (почти такая, как сейчас, если по-честному), то в декабре уже 1992 года она была 2600%, все. И что? Если инфляция 2600%, как проводить приватизацию, как? Уже все. Ну и тогда начались ваучеры, тогда произошел критический этот сюжет с коррупцией, приватизация была проведена по схеме…
Григорий Гришин: …залоговых аукционов.
Григорий Явлинский: …залоговых аукционов, которые создали коррупционный фундамент.
А что такое коррупционный фундамент? Это такой фундамент, при котором не нужна независимая судебная система, потому что она задаст вопросы. Это такой фундамент, при котором не нужен независимый парламент, потому что он тоже будет задавать вопросы. Это такой фундамент, когда не нужна независимая пресса. Ну и все, и мы получили то, что получили.
Григорий Гришин: Если перебрасывать мостик к сегодняшнему дню, какие уроки можно извлечь из того, что случилось с программой «500 дней», ну и программой «Согласие на шанс»?
Григорий Явлинский: Во-первых, я хотел бы сказать вам, что не следует отбрасывать и забывать, что модернизация России могла и должна была стать одним из ключевых элементов трансформации мировой после холодной войны. Это был очень важный, ключевой момент окончания холодной войны. Вот провалить успешные реформы страны, которая отказалась от холодной войны, – оценивайте сами. А до сих пор никто это оценить не желает, поэтому до сих пор никто выбраться из того, куда все это заехало, не может.
Теперь. Альтернатива-то выхода из этого положения, согласно этим программам, была реальной. Да, можно сколько угодно говорить о том, что «если бы да кабы…», «реально только то, что реально было», а я все-таки хочу обратить внимание наших зрителей и ваше на то, что это был реальный выход. Не было ни одного грамотного специалиста… наших партийных работников я в данном случае откладываю в сторону… – в мире не было ни одного специалиста, профессионала, который бы сказал, что это не будет работать. Это действительно могло работать, и это была действительно реальная альтернатива.
Почему? Потому что она опиралась на знание экономики и на реальное представление о том, что экономика представляет и куда мы хотим ее привести. Ну и, кроме того, ведь начал я работать над этой программой еще в первой половине 1980-х гг., поэтому она не была политически спекулятивной такой. Там же еще третья была составная часть этой программы – Экономический договор, понимаете: это банковский союз, это рубль как общая валюта…
Григорий Гришин: Это то, что опережало Евросоюз на несколько лет.
Григорий Явлинский: Конечно! Так это же еще один вопрос. А если посмотреть на сегодняшнюю проблему с Украиной? Если бы была общая экономика, общая валюта, шансы на то, что были бы вот такие вещи, меньше, правда же?..
На мой взгляд, это не вопрос прошлого. Даже в самые сложные, мрачные, беспросветные времена окно открывается. В начале 1980-х гг. ожидать, что вдруг начнутся какие-то реформы, перемены, было совершенно невозможно. Вот вдумайтесь, что происходило: война в Афганистане; сбили самолет корейский, полный людей; умер Брежнев, пришел председатель КГБ, стал генеральным секретарем ЦК КПСС; людей, ваших родителей стали останавливать на улице и спрашивать: «Почему вы не на работе? Предъявите паспорт». Вот я сидел в кинотеатре и смотрел кино – вдруг зажигают свет, говорят: «Предъявите документы и объясните, почему вы не на работе». Вы представляете?..
Так вот я хочу сказать: даже в такие особые, грустные времена окно открывается, и к этому надо быть готовым. А как узнать, что окно открылось? Вчера был Сидоров, завтра придет Иванов – скажут: «Вот!» А вот, на мой взгляд, узнать о том, что окно действительно открылось, можно в том случае, когда главным станет человек с большой буквы и свобода. Как только вы почувствуете, что это является содержанием, это значит, окно открывается. (Кстати, как статья называлась, «Человек, свобода, рынок», – вот.) Когда откроется окно вот это, это означает, что человек снова стал чем-то самым главным.
Ведь что сделал Горбачев, что сделал главное он? Он дал людям свободу. Что это значит? За то, что вы сказали, за то, что вы говорите, вас не только не расстреливали больше, не только не сажали в тюрьму, не только не выгоняли с работы – даже из партии не выгоняли.
Теперь. Экономической программы недостаточно – нужна политика. Если вы сделаете какую угодно замечательную программу и кому-то ее дадите, вы проиграете, ничего не получится – нужна политика, реализующая вашу программу. Программа – это как ноты, но без музыкального инструмента; ты можешь носить эти ноты и даже попробовать их спеть, но ничего не получится, если нет музыкального инструмента. Вот так музыкальным инструментом, инструментом является политика. Да, может быть сыграна любая мелодия (это уже зависит от того, какие ноты), но ноты без инструмента не работают, а инструмент под разные ноты может делать что угодно. Если вы отдаете программу свою тому, кто не умеет играть, не имеет слуха музыкального, ничего не получится.
Вот меня часто спрашивают: «Ну вот зачем вы сохраняете „Яблоко”?» А вот для того, чтобы, когда откроется окно и будет программа… А это сейчас несложно сделать, сейчас программу сделать несложно, потому что все понятно. Но нужна политика, которая будет ее реализовывать. Сейчас дело не в программе, а дело в том, чтобы была соответствующая политика, чтобы были люди в парламенте, в правительстве – там, где принимаются все решения.
Я думаю, что на сегодняшний день главные задачи – политические, и особенность сегодняшнего дня в том, что они теперь планетарные, вот в чем особенность сегодняшнего дня. Тогда это так не было. Та эпоха закончилась; все, что вы наблюдаете сегодня, – это завершение эпохи. И сегодня вопрос о том, что с этим делать, вообще открыт, это вопрос абсолютно открытый.
И здесь экономика на самом деле не на первом месте, а на втором, а на первом месте то, как политически должна быть организована жизнь, после того как эпоха с 1945-го по 2025-й гг., 80 лет, завершилась. Вы же видите разговоры: ООН не работает, Совет Безопасности не работает, международные все фонды перестали работать… Посмотрите, что на Ближнем Востоке, посмотрите, что вообще происходит, понимаете… Вот. Поэтому на самом деле это такая всеобщая сейчас проблема, поэтому речь должна идти не просто о России, а речь должна идти об изменениях шире в современном мире в Европе вместе с Россией.
Но что главное? – человек. Потому что если говорить о многополярности, при которой, скажем, на одном полюсе мужчины и женщины равны, а на другом полюсе женщины не имеют значения и важны только мужчины, – так невозможно находить общий язык. (Я к примеру вот это вот говорю, понимаете.) И все эти вопросы сегодня вообще открыты, вот они открыты, поэтому сегодня вопросы политики и национальной, и международной выходят на первый план.
Поэтому разговор-то так и строится, что это не просто то, что мы наблюдаем, это такое продвижение к хаосу, но это хаос на «Титанике»: это можно попасть в очень неприятные вещи.
Григорий Гришин: Мы уходим от экономики и приходим к политике, а политика может закончиться таким, что никакая экономика вообще не нужна будет…
Григорий Явлинский: В общем, я, к сожалению, должен сказать, что экономического плана недостаточно и экономических решений недостаточно, не говоря уже о том, что мало кто в этом разбирается, потому что сколько было разговоров, что «сейчас экономика рухнет, и завтра рухнет»; завтра не рухнула – «ну послезавтра точно», и ничего этого не происходит, и все это чепуха и все. Почему? Потому что политика определяет.
А реформы экономические, конечно, надо будет делать. Какие? Самые ключевые, которые, можно сказать, примыкают и к событиям, связанным с реформами «500 дней». Почему? Потому что нужно будет сделать человека свободным. Если у него есть собственность и он предприниматель, занимается экономикой, он должен быть человеком свободным, а не человеком, который каждый день боится, что его арестуют, а через день все время оглядывается, кто что сказал, – так невозможно работать. Поэтому все-таки надо начинать с первого, а уже экономику делать в соответствии с тем, чтобы человек реализовывал через нее свои свободы и свои возможности. Поэтому нужна политика, а не просто экономическая программа, то, что вот я вам говорил, потому что иначе это ноты без инструмента.
Потому что проблема заключается в том, что до сих пор никто этого ничего не понял, понимаете. Никто не понял, как вот это все случилось. А вот это все так случилось, потому что провалили все в 1990-е гг. В 1990-е гг. заложили фундамент вот именно вот этой системы, и я об этом не раз говорил.
А еще было ощущение того, что внезапно развалился Советский Союз, и было такое ощущение, что «как, мы же не проиграли войну»: то мы были на первом месте, были главными конкурентами, а то вообще вот… И это был такой версальский синдром. Версальский синдром после Первой мировой войны привел ко Второй мировой войне напрямую, и только после этого стали уже думать и вот [за] 80 лет выстроили систему. А теперь и она пришла в никуда.
Григорий Гришин: А есть ли проблески того, что новая система будет формироваться? Потому что сейчас мы действительно видим как бы энтропию, развал, дисфункцию всей прежней общемировой политической системы.
Григорий Явлинский: Пока нет, пока нет.
Ксения Свердлова: И что делать?
Григорий Явлинский: Вот. И говорить о том, о чем вы меня расспрашивали (о программе «500 дней»), нужно для того, чтобы понимать, как это все происходило, уроки, и чтобы это не повторялось, когда откроются возможности.
А что делать? – быть готовым к тому моменту, когда появятся возможности. А они появятся, они появятся, к этому надо быть готовым. А что такое быть готовым? – это в т. ч. иметь экономическую программу, но иметь политику, участвовать в политике. Да, это очень трудно и очень несвоевременно, но участвовать в политике, для того чтобы реализовать эти экономические программы. Вот что делать – готовиться к этому.
И это должны быть сотни, а может быть, и тысячи людей. Нет, не миллионы, но сотни людей, которые смогут убедить людей, чтобы люди в это поверили. А убедить наших российских, русских людей в том, чтобы они поверили, очень затруднительно, потому что их слишком часто обманывали, слишком часто. Интуитивно они чувствуют, но убедить их в этом очень сложно, потому что слишком часто обманывали.
Вот как, например, работала пресса, которая критиковала все, что происходило? Вот были газеты, которые расследования делали, вам же это хорошо известно. Ну вот люди читают расследования, они ждут, что что-то будет после этого, а ничего не происходит. А на следующей неделе эта же газета печатает новое расследование, еще круче, чем то; люди опять читают, они ждут, что что-то должно [произойти], кто-то должен [принять меры], – опять ничего не происходит. Так длится годами. И какое складывается у людей отношение? – «А чего это читать?» Небольшая группа бежит на площадь покричать, а 95% говорят: «Все, мне это ничего не интересно, я в это во все не верю, все это бесполезно, эти все расследования». Ну и что, и какой результат? И ничего не происходит.
А почему? А потому что, к примеру, эта газета считала, что она над политикой, над политикой. То есть одни говорят, что дважды два – четыре, другие говорят, что дважды два – пять, а они над политикой. Вот мы и приехали.
Григорий Гришин: Ни газет, ни политики.
Григорий Явлинский: Вот и все.
При этом я заметил и хочу передать: все, кто прав, всех травят, это обычная система жизни. Не только у нас, это еще со времен Дон Кихота, вы это можете найти во всем и везде: вот кто прав, того и травят. Помните, эта знаменитая фраза, неизвестно кем сказанная: «Если собаки лают, значит, мы идем в правильном направлении». Поэтому нам досталось очень, очень сильно и будет доставаться, но просто все должны знать, не удивляться этому, не терять от этого разум, а понимать, что вот так… Извините, так жизнь устроена: реформы придется сделать, чтобы сохранить страну и сохранить будущее, другого способа никакого нет.
Поэтому ключевое будущее – это не территории, не государства, не ресурсы, не победы, а человек и его свобода. Вот что главное.
Григорий Гришин: Спасибо, Григорий Алексеевич!
Ксения Свердлова: Спасибо!
Григорий Явлинский: Вам спасибо.