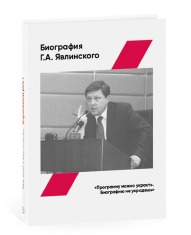— Когда вы начали писать стихи?
— Начинал-то я скульптором в Строгановском художественном училище. Стихами занялся гораздо позже. В те времена ведь было общей привычкой собираться компанией у кого-нибудь дома и там, попив чайку или водочки, приниматься за чтение стихов. Друг другу. Чужие и наизусть. Знали их тысячами! Это были такие как бы полурелигиозные радения. Та удивительно обаятельная субкультура сейчас исчезла. Но атмосфера была столь заразительна, что многие и сами начинали писать.
Потом в изобразительном искусстве подступила пора концептуального искусства, которая характеризовалась чудовищной вербализацией всего визуального. Тексты зачастую заменяли изображения на картинках. И вот мои две привязанности, два основных занятия столкнулись: вербальность и визуальность. Тогда я и начал делать свои визуальные объекты с более или менее забавными текстами. Например, у меня были такие манипулятивные тексты, которые нужно было непременно перелистывать, потому что именно в листании и заключались их конструкция и содержание.
Потом случились тексты объемные, трехмерные. Следом у меня возникла задача — понять, что же такое концептуализм в литературе.
Серьезное же занятие поэзией поначалу обрело вид соц-артистских стихотворений. Я писал в то время как «гипер-советский» поэт. Там фигурировали образы поп-героев, исторических персон и советских лидеров — например, Сталина, Ленина, Хрущева, Петра Первого, Суворова, Чапаева и других. Наличествовали темы и сцены повседневной жизни. Но все это подавалось языком митингов, канцелярии, политических обращений.
Подобное было интересно по двум причинам. Во-первых, вся тогдашняя элитарная андеграундная, или противостоящая власти, диссидентская культура тяготела к высокому традиционному языку русской литературы XIX — начала ХХ века. Но ведь существовал и язык повседневной жизни! Когда ты оказывался на улице, на службе, в магазине, на стадионе, ты, естественно, говорил на обыденном, общеупотребимом языке. Получалось, что ты жил как бы параллельно в двух мирах. Это была такая шизофрения, разделение на два языковых бытования, так как в высококультурных кругах советский язык, обзываемый собачьим, был в большой степени табуирован.
Во-вторых, на Западе в те времена наступил расцвет поп-арта. Поп-арт был реакцией на перепроизводство прекрасных товаров и товарных лейблов, господство масс-медиа. У нас же, наоборот, не было никакого перепроизводства товаров, но было перепроизводство лозунгов, идеологий, бюрократических штампов.
Это было в какой-то мере аналогично тому, с чем работал поп-арт. У нас возник соц-арт. И тогда, поначалу, был своеобразный азарт в обретении этих новых средств и нового художественного языка. Немногие художники работали в данной сфере и с этим языком. Поначалу нас было, наверное, всего человек десять.
Лев Семенович Рубинштейн занимался чистыми концептуальными текстами. Некрасов Всеволод Николаевич писал минималистские тексты. Поначалу все мы были в раздельности и даже не знали друг друга. Потом уже появился Сорокин Владимир Георгиевич — первый и единственный тогда прозаик среди нас. Это продолжалось, помнится, с 1969-го по 1975 год. Мы были в раздельности и меньшинстве. Единственное, что нас поддерживало, это практика сопутствующих и окружавших нас художников.
— Кто были ваши кумиры?
— Когда я учился в художественном институте, еще были живы люди, которых многие тогда почитали почти богами. Фаворский, Фальк, Татлин. Крученых, Пастернак, Ахматова, Лосев. Но в молодости я был далек от круга тогдашних элитарных общений. Если я у кого-то чему-то и учился, так это, скорее, у своих друзей. Что-то смотрел, где-то вычитывал.
Социокультурная ситуация в стране была такова, что она неизбежно сбивала в один круг людей совершенно разных поколений, разных профессиональных ориентаций и разных эстетических пристрастий.
То, что в западной культуре было распределено по культурным поколениям, в СССР смешалось в одной каше.
— Вы могли бы подробнее рассказать про систему возрастов в социально-культурной структуре нашего общества?
— Да, конечно. Мне биологически — 62 года. Далее — творчески мне гораздо меньше, потому что в культуру я вошел в 88-м году, а мои первые стихи были напечатаны в России в 89-м году, потом начались и выставки. То есть в культурном отношении я совсем молодой человек. А в социальном отношении я вообще подросток, потому что люди моего поколения все считались как бы дитятями лет до 40, а то и до 50. Все мы были в обществе того времени какими-то учениками и мелкими опекаемыми людишками.
Вот эта разведенность возрастов очень негармонична. Она создает внутреннее поле напряжения, не дающее мне спокойно выходить на люди. И для ормального, гармоничного существования в мире мне требуется много дополнительных энергетических усилий. Ведь в 60—70-е годы мы жили в патерналистском обществе, где социализация была очень медленным процессом. Был буквальный страх зайти в домоуправление, боялись поспорить с контролем в транспорте…
Сейчас пришло другое время. Посмотрите, кто сейчас вершит дела на телевидении, радио, в прессе. Это немыслимо молодые люди. В наше время их к дверям этих заведений просто бы не подпустили. А сейчас они не чем-то там невинным и нехитрым занимаются, а на руководящих ролях. И это нормально для нормального общества.
— Интересно узнать о ваших личных способах выживания в советское время.
— Я при советской власти довольно удачно, как мне представляется, маневрировал. Кроме одного небольшого периода, когда у меня появились некоторые сложности. Я окончил художественный институт, хотя меня и пытались выгонять за формализм. Когда окончил институт, я перестал заниматься изобразительным искусством и пошел на службу в государственную контору на должность архитектора. У меня было несколько подконтрольных районов, где я следил за правильностью окраски и внешней отделки зданий при ремонте. Была такая должность. Я приходил, расписывался в журнале: «Ушел на объект» — и отправлялся в библиотеку, где целыми днями читал.
Это продолжалось примерно семь лет. Сочетание почти фиктивной службы, чтения, кропания стихов и семьи заполняло всю мою жизнь. Я чувствовал себя вполне комфортно. Потом как-то встретился мой старый институтский приятель скульптор Борис Константинович Орлов и говорит: «Слушай, вот у меня работа горит, помоги!» Я пошел ему помогать — и вдруг понял, что мне надоело работать в конторе. И я ушел. Мы стали вместе лепить скульптуры для парков, садов. Это было забавно — такая комбинаторика, как игра в карты. Мы были ловки, и нам не составляло труда ваять подобные скульптуры. Выбирали определенный стиль и лепили — например, петровское барокко или греки. Такая игра в стили. Никаких особых проблем. Платили за это по тем временам вполне прилично. Такой ни к чему не обязывающий профессионализм.
А потом у меня испортились отношения с властью. Это произошло после того, как мои стихи опубликовали где-то за рубежом. Начались вызовы на комиссии, сложности с мастерскими. Тогда я начал зарабатывать уже несколько иными способами. Были даже обыски, вызовы в ГБ. Правда, не могу сказать, чтобы это меня очень уж удручало.
— А был ли момент в вашем творчестве, когда вы вдруг поняли, что нашли свой стиль, свой способ самовыражения?
— Я даже точно могу припомнить, как и где это случилось. Я писал тогда, как и все в те годы, — в духе Ахматовой, Пастернака и Мандельштама — такой общепоэтический компот. И все мучился над проблемой, что же такое может быть адекватной реализацией концептуализма и соц-арта в литературе. И однажды на даче я вдруг все понял. Такое вот озарение в духе романтических поэтов. Но что поделаешь, именно так и случилось. И тогда же написал стихотворение под названием «Сталин и девочка». Потом сразу другое — «Калинин и девочка». Потом — «Ворошилов и конь». И пошло. С этого момента я полностью осознал, что делаю и что должен делать. Потом я, естественно, менялся, но тот момент был моментом осознания себя и своей поэтики. Так начался достаточно длительный соц-артовский период в моей жизни. Потом, естественно, я ушел от этого.
Источник: Дмитрий Александрович Пригов. Мне 62 года, я — подросток. «Новая газета», 23 декабря 2002 года