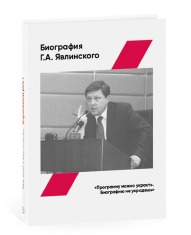Уникальный фильм-эксперимент Александра Сокурова «Русский ковчег», снятый «единым планом» в залах Эрмитажа, наконец-то добрался до России. Убежденный патриот Санкт-Петербурга Александр Сокуров сначала устроил премьеру в питерском Доме кино, а в следующую субботу фильм увидят и москвичи. После премьеры с Александром Сокуровым встретился Сергей Ильченко.
— Когда вы впервые в жизни попали в Эрмитаж?
— Это было в декабре 1979 года, когда я первый раз из ВГИКа приехал в Ленинград, чтобы показывать на «Ленфильме» «Одинокий голос человека». Картину резко не приняли. На следующий день я пошел в Эрмитаж. Была очень холодная зима, а в Эрмитаже было очень тепло. Я страшно устал от картин. У меня было такое ощущение, что шло прямое общение между мною и множеством полотен. Было очень тяжело физически. Эта тяжесть суммировалась с тяжестью творческого поражения. До этого я, конечно, бывал и в московских музеях, и хорошо знал музеи Поволжья, где есть что посмотреть. Но такого впечатления, как тогда в Эрмитаже, я прежде не получал. Такие встречи с искусством — тяжелое событие в жизни человека, порою не осознаваемое. Особенно, когда есть соприкосновение искусства с душой. Вот так встретили меня тогда Ленинград и Эрмитаж.
— В «Русском ковчеге» вы выстраиваете своеобразные отношения между Странником и неким автором, которого зрители не видят, но слышат. Причем, Автор озвучен вашим голосом. Эта пара проходит через весь фильм. То есть с одной стороны, гость, с другой, русский человек. Вроде бы, хозяин:
— Гость — это европеец. В фильме, таким образом, присутствует некая система отношений между Россией и Европой.
— «Русский ковчег» уже демонстрировался за рубежом, в том числе и в Старом Свете. Как, на ваш взгляд, Европа восприняла вашу версию своих отношений с нашей страной?
— Мне кажется, что с пониманием. Потому что критическая мотивация по отношению к России в Европе общепринята. Для меня нет никаких сомнений, что мы Европу любим и понимаем больше, чем Европа любит и понимает нас. Я бы даже сказал определеннее: Европа вообще готова нас не замечать. У нас есть потребность в европейском искусстве, есть его понимание. А у них нет ни потребности в русском искусстве, ни его понимания. Отношения культурного общения с их стороны и на уровне литературы, и на уровне кинематографа происходят крайне поверхностно. Да и на уровне философии тоже. При этом, надо честно сказать, европейцы — наши учителя. Это горько, но это надо признать. Мы отстаем от них на несколько кругов цивилизации. И при таком соотношении мы выглядим в их глазах детьми и потому всегда будем ими понукаемы. И никогда они нам не будут доверять. Если мы не совершим большой рывок в смысле цивилизации. Нам не надо выдвигать на первый план своих режиссеров, писателей, композиторов, а надо заниматься собственным эволюционным развитием в части совершенствования жизни общества. В этом проблема. По этому они о нас и судят — по несовершенству общества.
При этом люди образованные приняли картину, а тем людям, у которых внутри нет широкой культуры, воспитания, это малоинтересно, малопонятно.
— Как восприняли ваш фильм российские критики?
— Здесь аналогичная история. Те, чьи образование, воспитание и культура не позволяют настроиться на тот круг тем и размышлений, который мы предлагаем в фильме, резко отрицательно его восприняли. И наоборот, люди думающие, знающие и чувствующие были не то чтобы более лояльны, но хотя бы более внимательны. Есть, конечно, и те, кто встретил «Русский ковчег» с восторгом.
— Какова была реакция тех русских, которые живут вне России?
— Некоторым русским эмигрантам было досадно видеть эту картину. Люди, по разным причинам уехавшие из России, предпочитают видеть здесь крушение, сгущение отрицательных обстоятельств. Им по политическим или иным соображениям оскорбительно видеть развитие и энергию, исходящие отсюда, из России. Они это воспринимают как личное оскорбление: «Как это так! Вы там еще не умерли? Еще шевелитесь?! Что-то там создаете? Еще сопротивляетесь?» Многие люди, живущие вне страны, воспринимают нашу жизнь в Past Indefinite Tense — определенно прошедшем времени. Естественно, что им очень трудно увидеть какую-то перспективу. Хотя на просмотрах на Западе атмосфера в залах была сосредоточенно-внимательная. Особенно в Лондоне, где фильм показывали в огромном зале, и никто не уходил с просмотра. Я видел своими глазами, что происходило в Бразилии, в Сан-Пауло, где картина идет в прокате. В зале было полно молодежи. К сожалению, я увидел тот разрыв, который существует в уровне цивилизованности между русским и латиноамериканским студенчеством не в пользу нашего.
— Почему в финале картины ваш герой произносит столь многозначную фразу: «Прощай, Европа!»?
— Каждый фильм — это некий художественный, поэтический поступок, где есть своя тайна. Если говорить об отношениях между искусством и политикой, социологией, философией, творцы часто ошибаются. Я тоже могу ошибаться, пытаясь соединить несоединимое, сопоставляю несопоставимое. Художник опирается на интуицию, создавая свое произведение, которое может быть сопоставимо с процессом политическим. Но одно вовсе не обязательно должно подменять собой другое:
— Однако финальные реплики картины звучат следующим образом: «Мы будем жить вечно, мы будем плыть вечно». Вопрос напрашивается сам собою: «Куда ж нам плыть?»
— Ответ очень прост: надо работать, надо образовываться, чтобы выбраться на дорогу. Надо созидать. Нам надо учиться делать то, что мы почти не умеем делать. Ковчег, в котором мы все оказались, будет плыть, двигаться. Но этот ковчег построен не нашими руками. Этот факт требует осознания. Нам предстоит плыть в одиночестве, может быть, всегда, может быть, некоторое время, потому что наше отставание велико. Мы поймем, что значительную часть пути надо еще пройти, опираясь только на свои мозги, на самих себя. Нам надо догнать самих себя. Русское общество, русское государство — подросток среди цивилизованного мира. Мы все время деремся, воспринимая мир как наш двор. Огромная энергия, силы тратятся на какие-то деструктивные поступки. Никогда не находится той социальной силы, которая бы остановила общество и призвала всех к порядку. Религия давно уже не действует. Православная религия абсолютно бессильна в этом смысле. Она не может не только остановить деструкцию в общественном развитии, но и спасти самое себя. У нас нет опоры ни в чем и нигде. Ни среди власти, ни среди интеллектуалов, ни среди интеллигенции, которая сегодня совершенно спокойно переориентировалась. Особенно московская, да и часть питерской.
Да и в Поволжье тоже происходят аналогичные процессы.
Остается только искусство. Это объективная реальность. Другой реальности, за которую можно было бы ухватиться, нет. То искусство, которое мы в состоянии понять, присвоить, сохранить. Оказывается, что только оно способно сформулировать некую константу, то, что стабильно и надежно и не подвержено никаким конъюнктурным изменениям, временным и политическим. Понятно, что нам надо широко открыть глаза на классическое искусство. В контексте русской общественно-политической практики тоже.
Необходимо остановить дегуманизацию политики и общества в принципе. Это возможно, только если опираться на искусство. Другой разумной, трезвой, а главное, простой идеи для русского общества нет.
— Замысел «Русского ковчега» требовал не только фантазии, но еще и того, чтобы съемочная техника доросла до него. А есть ли у вас такие замыслы, к которым современная киноаппаратура еще не готова?
— Да, есть несколько идей. Их пять. Они имеют некоторую драматургическую новизну для меня. Но они нуждаются в совершенно другом технологическом инструменте. Я допускаю, что мы будем дожидаться и, может быть, мы дождемся его.
— Вы не могли бы рассказать об этих замыслах?
— Это будет попытка соединить игровую форму киноповествования с ядерной физикой. На сегодня в ней слишком много электричества.
— Помогала ли вам реально та техника, которую вы использовали на съемках «Русского ковчега»?
— Я преклоняюсь перед техникой и наукой. Люблю биологию, люблю физику. Есть вещи, которые мне очень интересны в химии. Люблю кое-что в военном деле. Когда мне наш продюсер Андрей Дерябин предложил формат High Definition, то я отнесся с восторгом. Хотя прекрасно понимал, что даже этот формат не дотягивает до того уровня, на котором выполнять надо вполне определенные задачи. Он не мог гарантировать работы в такой большой промежуток времени без остановок. У этой техники есть серьезные проблемы с осуществлением художественных задач в том, что касается цвета. Она архаична, в ней очень много бетакамовских недостатков. Не говоря уже о том, сколько весит этот съемочный комплект. Нашему оператору пришлось пережить немало физических сложностей, чтобы реализовать план съемок. Но на сегодняшний день это была единственная техническая возможность реализовать поставленную творческую задачу.
— Прокомментируйте, пожалуйста, ваш отказ поддержать выдвижение оператора «Русского ковчега» на премию Европейской киноакадемии «Феликс».
— Мы работали с профессиональным оператором Тимом Виберном, к которому я отношусь с большим уважением. Мы остановились на его кандидатуре, потому что это был единственный человек из обозримого нами пространства, который мог физически эту непрерывную съемку осуществить. Обычно оператор такой системы снимает максимум семь-восемь минут. Потом сбрасывает с себя это оборудование, потом ложится и долго отдыхает. А у нас съемка шла полтора часа с движением по лестницам, подъемам, спускам, работой с композицией. И, конечно, на этом трудном пути было совершено много ошибок, которые мы потом исправляли, не касаясь изображения и монтажа. Поэтому оценки работы оператора на данной картине, в данном случае были очень сдержанны. Для продюсера было дорогим удовольствием исправлять ошибки оператора при съемке.
К сожалению, когда многое было исправлено, наш коллега повел себя неадекватно ситуации. И поэтому я был вынужден заявить, что «Русский ковчег» надо оценивать как единое целое. Без акцентов на режиссерской и операторской работе. Вычленить какой-то компонент из труда огромного коллектива очень трудно. Мое критическое отношение к сделанному нашим коллегой из Германии касается только неадекватного выполнения художественной задачи в нашем проекте. Когда же к моему мнению не прислушались, я был вынужден снять картину с номинаций на призы Европейской киноакадемии, а затем вышел из ее состава. Иногда приходится слышать непонятные заявления наших партнеров из Германии о том, что вообще «Русский ковчег» — немецкая картина. Это спекуляция на их участии в проекте.
— Можно ли было использовать другую технику для съемки «Русского ковчега»?
— Строго говоря, его можно было снять еще лет десять назад в формате SVHS, где есть трехчасовые возможности и камера легче. Но когда идет речь о творчестве, мы всегда должны думать о качестве. Все ныне существующие форматы записи изображения, к сожалению, не предполагают ответственного, качественного результата на экране. То есть это не позволяет продюсеру свободно оперировать в экономическом пространстве полученным результатом. Задача мною была поставлена непростая: запас качества должен был быть таким, чтобы можно увидеть все снятое на киноэкране.
— Вы собираетесь далее использовать технику Steadycam в своей работе?
— Сейчас я заканчиваю съемки фильма «Отец и сын». И есть идея, чтобы следующая картина — «Солнце» — из трилогии, начатой лентами «Молох» и «Телец», снималась с помощью этой техники. Сценарий уже готов. Он посвящен судьбе японского императора Хирохито, в правление которого страна потерпела поражение во Второй мировой войне.
— Какие cложности на съемках «Русского ковчега» были самыми труднопреодолимыми?
— Мы прошли на съемках «Русского ковчега» через решение таких задач, которые беспрецедентны в практике мирового кино. Ни одна, даже самая крупная студия не решалась браться за нее. Ведь здесь возникали ситуации, когда за очень короткое время нужно было решить десятки проблем и режиссеру, и продюсеру, и режиссерской группе, и оператору, и актерам.
— Может быть, стоило обратиться к опыту и помощи гигантов западной киноиндустрии?
— Если суммировать весь груз профессиональной ответственности, то никто в Голливуде, ни один крупный состоятельный телеканал не решался взвалить его себе на плечи. Дело не в массе денег. Эта картина, снятая в условиях западной кинематографической практики, стоила бы десятки, если не сотни миллионов долларов. Сомневаюсь, что за столь короткое время там смогли бы собрать такой сложный коллектив, и творческий, и человеческий, который бы действовал как один организм. Это оказалось возможным только у нас.
Нам очень пригодился тот опыт работы в советском кино, который ныне столь часто ругаем. И с точки зрения организации съемок, и в работе с актерами, не говоря уже о принципах дисциплины. Профессиональный опыт, выработанный десятилетиями проклинаемого сегодня советского кино, помог нам совершить этот поступок.
Я в жизни никогда не работал в советском кино на картинах такого масштаба. Итог работы над «Русским ковчегом» рождает очень большой оптимизм по отношению к русской профессиональной среде. Оказалось, что мы в состоянии реализовать самые невероятные, самые фантастические вещи.
— Эрмитаж — это не только история культуры, не только эпизоды эпохального значения, но еще и человеческие судьбы. В «Русском ковчеге» сотрудники музея присутствуют скорее на периферии сюжета. За исключением встречи трех директоров Эрмитажа — академика Орбели, Бориса и Михаила Пиотровских. Вас не соблазняла идея рассказать на экране какие-то житейские истории?
— Эрмитаж — это целый мир, населенный огромным количеством реальных судеб и драм. Можно было в фильме усилить лирические акценты, хотя я считаю, что лирики в «Ковчеге» и так хватает. Ведь там есть фигура Автора. Наверное, все дело во мне. Таково мое впечатление об Эрмитаже. Я предпочел строго к этому отнестись и строго к этому подойти. На меня очень сильное впечатление произвело все, что происходило в музее в годы блокады. Я знаю всю степень трагичности происходившего тогда. Может быть, позже появится другой режиссер, который сумеет показать на экране жизнь Эрмитажа более разнообразной.
Эрмитаж — консервативная структура, и эту консервативность я приветствую. Мне приходилось бывать в разных музеях мира, и я могу сравнивать, поэтому и могу сказать, что Эрмитаж ждет большое будущее, потому что впереди есть осознание его реального места не только в культуре города, но и в культуре России. Из моих разговоров с Михаилом Пиотровским знаю, что в Эрмитаже очень этим озабочены и много об этом думают. Но понимают там и то, что в музее есть очень много вещей, к которым опасно притрагиваться. Эрмитаж — это не только картины и экспозиция, это еще и коллектив людей, которые там работают. Большой, разнообразный и очень непростой, насколько я могу об этом судить. Я отношусь к коллективу Эрмитажа как к национальному достоянию. Тем более что там есть люди, работающие в музее десятилетиями. Они сами носители такой мегаинформации, что ее ни в каком издании не поместить.
Когда мы вторглись со своей работой в музейную жизнь, то очень волновались, как это все пройдет. Мы ведь уже снимали в Эрмитаже фильм «Робер. Счастливая жизнь» и сталкивались с разным отношением. Для любого научного сотрудника наши хлопоты выглядели суетой рядом с Вечным.
— То есть вы принципиально избегали возможных скандальных сюжетов в картине?
— Я не об этом ставил фильм «Русский ковчег». Я не люблю контрастной окраски отношений. За это я не люблю так называемое американское кино. Они вводят красящее вещество в организм персонажей, чтобы все на экране было зрителю понятно. Это не мой метод.
— Отбор исторических сюжетов в «Русском ковчеге» понятен. Это — статусные моменты отечественной истории. Но почему трагедия 1917 года осталась за кадром? На вас так повлиял Сергей Эйзенштейн и его фильм «Октябрь», где революционная толпа врывается в Зимний дворец?
— Дело в том, что наши немецкие партнеры осторожно так намекали и мне, и нашему генеральному продюсеру Андрею Дерябину, что неплохо было бы это показать. Это мое субъективное решение — не касаться данной темы. Единственное упоминание о революции — в диалоге Странника и Автора на лестнице, когда слышится фраза о том, что у нас была своя эпоха революционного Конвента, которая длилась восемьдесят лет, и это было очень печально. Мне очень горько и стыдно за часть истории Родины моей. Горьких страниц так много, что я порою не знаю, что говорить и что делать. Мне очень стыдно за октябрьский переворот. Мне очень стыдно за участие народа в поддержке сталинского режима. Мне очень стыдно за многие вещи, которые происходят сегодня. Чем больше я об этом думаю, тем больше вижу тех самых родимых пятен прошлого, которые не изживаются.
Я боялся прикасаться к теме октябрьского переворота. Пришлось бы рассказывать об очень страшных вещах. И это бы сделало производство картины несопоставимо дорогим. У меня было только одно решение этой темы, но я даже не стал предлагать его продюсерам. Потому что они и так занимались тяжелым и неблагодарным делом — сбором средств на картину. Если смотреть правде в глаза, то многие, наверное, и так знают, что натворили здесь люди в шинелях в первые дни после взятия Зимнего дворца. Я отделен своим возрастом от этих событий, но я не перестаю быть гражданином России. Мне просто стыдно. У меня нет адекватных художественных решений этой темы, кроме чувства горечи и стыда.
— Проходя из зала в зал, Странник и Автор в «Русском ковчеге» останавливаются у некоторых картин. Отбор этих объектов для съемки был делом спонтанным или осознанным? Например, герои видят у рембрандтовской «Данаи» cтранную посетительницу, но почему ни слова не произносится о трагической судьбе этого полотна:
— В Эрмитаже огромное количество замечательных картин. И когда мы остановились в том числе на «Данае», то, конечно, думали и об этом. Хотя вы знаете, что от истинного холста Рембрандта почти ничего не осталось. Когда мы задумывали наш фильм, то считали, что главная задача наша — создать картину, которая, может быть, привлечет внимание к Эрмитажу дополнительно:
— Вы считаете, что вам это удалось?
— Я столкнулся с повышенным вниманием к фильму. На премьере «Русского ковчега» в Хельсинки ко мне подошел молодой человек и сказал, что он смотрел картину и уже купил туристический тур в Петербург с обязательным посещением Эрмитажа. Если мы нашей картиной приведем сюда новых гостей, посетителей, музею от этого будет только лучше. Мы нуждаемся в том, чтобы привлекать внимание даже такими художественными средствами. Но всего богатства в одном фильме было не охватить. За пределами остался, например, Леонардо да Винчи. Я надеюсь на то, что человек придет в Эрмитаж и сможет увидеть все это своими собственными глазами.
Длина нашей декорации — полтора километра. Она уникальна. Ведь приходилось освещать каждый объект по-своему. Отбор картин в фильме построен на моих личных пристрастиях: это и Эль Греко, и Канова, и Рембрандт. Я благоговею перед внутренним миром архитектуры. Меня поражают возможности человека сотворить эту красивую внутреннюю сферу.
«Русский ковчег» — это выражение моей любви к Эрмитажу. Я как человек провинциальный не устаю этим восхищаться. Для меня это святые вещи. Таким образом я плачу Эрмитажу за то чудо, которое он создает. Если бы не было здесь Эрмитажа, я бы не задержался так долго в Петербурге.
— У картины Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» cлышится реплика о том, что так будут выглядеть люди в будущем. Красота спасет мир?
— Достоевский говорил немного по-другому: красота подвига Христа спасет мир. Это еще тот подвиг и еще та красота, которые призваны спасать мир. Надо быть Достоевским со всеми его проблемами, чтобы так сказать. Эль Греко очень хорошо понимал, что живопись — очень плоскостное искусство, и не игрался объемом. То, к чему я всегда стремлюсь и всегда хотел достичь. Речь в этом диалоге идет, конечно, о красоте внутренней, духовной. Сколько можно повторять людям одно и то же! Но люди глухи к этому. Никто к красоте душевной не стремится. Даже читать перестали. Мы почему-то забываем, что эти люди, изображенные как святые, тоже были живыми людьми, и очень разными людьми. В них видна красота мысли и красота красоты.
— Идея снять одним кадром весь фильм возникла сразу?
— Я даже и не помню, когда мне в голову пришло такое решение. Но я бы не стал концентрироваться только на этой особенности «Русского ковчега». Мы решали и другие, не менее грандиозные задачи. Например, в связи с актерской игрой.
— Удивительное ощущение возникало при просмотре: минут через десять ты уже забывал, что картина снята одним планом, без монтажных стыков:
— И слава богу! В этом есть некий парадокс. Мы все уже привыкли, что люди, создающие визуальные произведения, манипулируют временем и пространством. Мы привыкли к воинствующему волюнтаризму в отношении изображения, который демонстрирует в первую очередь телевидение. При этом манипуляция становится неизбежной. Такой же подход демонстрирует и кинематограф. Даже непрерывность самой съемки без перерыва, в течение полутора часов, не должна иметь такую феноменальную акцентуацию, потому что телевидение открыло нам феномен прямых репортажей, которые шли и полтора, и два часа. Телевидение вело, например, прямой репортаж с Луны, когда американцы там высаживались. Конечно, он монтировался, но фактор текущего времени уже был представлен.
Весь вопрос в художественном использовании такого эксперимента. Это всегда самая большая загадка и самая большая трудность. Я надеюсь, что найдется светлая голова, которая, имея в руках современную технику, такие еще вещи придумает, что все остальное рядом померкнет. Важно, чтобы при этом чувствовался художественный ритм сердца. И везде были бы смирившиеся нравы. Чтобы такие приемы не были агрессивной воинственностью искусства и культуры. Меня тревожит то, что телевидение нам все же демонстрирует эту самую агрессивную воинственность. Все программы без исключения:
— Ток-шоу?
— Конечно. И так называемые гуманитарные программы тоже. Не говоря уже о спортивных и развлекательных передачах. Особенно спортивные, которые по природе своей агрессивны. Это, конечно, большая проблема для нынешней визуальной культуры.
— Предполагается ли выпуск «Русского ковчега» в продажу на иных носителях?
— Мы отказались от выпуска копии фильма на кассетах формата VHS, потому что при этом происходят невосполнимые потери качества изображения. Для нас этот вопрос принципиальный. Из ныне существующих форматов адекватен оказался только формат DVD. Хотя я прекрасно понимаю, что стоимость одной копии будет очень высокой: 700-800 рублей. Надеюсь, что диск появится и в библиотеках, и в пунктах проката, чтобы люди могли его посмотреть.
— Почему ваши герои в «Русском ковчеге», проходя по залам Эрмитажа, все время закрывают за собой двери, а подойдя к окну, никогда в него не выглядывают?
— Что касается дверей, здесь были причины и творческие, и организационные. На эту тему можно написать целую диссертацию. А то, что мы видим за окнами Эрмитажа, мне не очень нравится. И я решил не подвергать риску картину, отказавшись от видов за окном. Кроме того, «Русский ковчег» — это замкнутый мир. Искусство — мир замкнутый, Эрмитаж — мир замкнутый. У людей в «Ковчеге» нет никакого выхода, потому что и у России нет иного выхода, кроме опоры на искусство.
И чем раньше в обществе это поймут, тем скорее мы выберемся из того положения, в котором мы оказались. Ни экономическое развитие, ни какие-то социальные прожекты, ни какие-то там политические амбиции — уже это наше общество спасти не может. Нас спасут только культура и искусство.
Источник: Александр Сокуров: «Русский ковчег» — это замкнутый мир», Газета «Газета», 14 апреля 2003 года