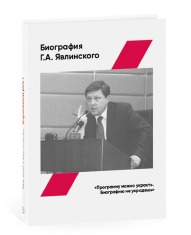Солженицын как человек эпохи классицизма
В Александре Исаевиче Солженицыне есть какой-то тайный знак, какая-то непрочитываемая информация. У нас и органа-то восприятия для нее нет.
Про лагерь мы читали, и про то время мы читали. И значит, не в этом дело. Ведь не объемом же изложения и подробностями он берет.
Он, математик по образованию, стремится к упорядочиванию знания. Все, что он знает, понял, собрал, составляет определенную систему, может, не вполне еще ясную и ему самому, не говоря уж про нас. И эту систему, свою картину мира он и составляет. В ней есть место и Архипелагу Гулаг, и Первой мировой войне, и Февральской революции, и станции Кречетовка, и Матренину двору, и размышлениям о будущем России, и микроскопическим «крохоткам» и восстанавливаемому из забвения русскому языку, который Солженицыну кажется более выразительным, чем наш, общепринятый.
Перед нашим взором всплывают отдельные куски этой системы, а мы принимаем их за целое, думаем, что можем в них разобраться и даже дать оценку.
Что мы можем там увидеть, расплющенные о тектонические пласты его знания, затерянные на его карте мира?
Солженицын верит в Просвещение, и воспринимает его, как воспринимали во все серьезные исторические эпохи, когда слово стоило жизни. Он верит, что одно слово правды весь мир перевесит.
«И где же?» — спросим мы. Вот уже не капля, а целые потоки пролились на наши головы, а что-то перемен не видно. Кому как. Ведь правду надо не только произнести, но и услышать, и вместить. А это уж как Бог даст. Он и сам говорил: «кто имеет уши слышать, да слышит!». (Мф. 11,15). А до тех пор надо говорить, даже и без надежды быть услышанным. Солженицын так и относится к слову.
Или к молчанию, что у него тоже стало формой общения с нами. И мы, уже ничего не слушающие, замечаем, когда он молчит, и думаем, что он хочет этим сказать.
Все неслучайно в его жизни, как, может, и в наших, но мы все как-то теряем по пути, а он сберегает. (И слово это — его). И арест, и смертельная болезнь, и чудесное избавление от смерти, и пребываение на краю опасности, и бесстрашное, как вызов, рождение сыновей, когда нельзя было поручиться ни за один день жизни, и умение жить своей жизнью, хоть в Вермонте, хоть в Подмосковье, не завися «ни от царя, ни от народа» — все это знаки его миссии. А что за ними?
Эпоха классицизма, время устроения государства требует всего человека, его времени, чувств, жизни – человек превращается в материал. Это потом останутся памятники, симметрия, размеченность пространства. А пока все это обустраивается, пока лес рубят – щепки летят.
Человек эпохи классицизма вносит в происходящее, как бы безумно, «огромно, стозевно» оно ни было, вертикаль разума и веры. Потом, когда все устроится, эта вертикаль и организует пространство и жизнь.
Про лагерь мы читали, и про то время мы читали. И значит, не в этом дело. Ведь не объемом же изложения и подробностями он берет.
Он, математик по образованию, стремится к упорядочиванию знания. Все, что он знает, понял, собрал, составляет определенную систему, может, не вполне еще ясную и ему самому, не говоря уж про нас. И эту систему, свою картину мира он и составляет. В ней есть место и Архипелагу Гулаг, и Первой мировой войне, и Февральской революции, и станции Кречетовка, и Матренину двору, и размышлениям о будущем России, и микроскопическим «крохоткам» и восстанавливаемому из забвения русскому языку, который Солженицыну кажется более выразительным, чем наш, общепринятый.
Перед нашим взором всплывают отдельные куски этой системы, а мы принимаем их за целое, думаем, что можем в них разобраться и даже дать оценку.
Что мы можем там увидеть, расплющенные о тектонические пласты его знания, затерянные на его карте мира?
Солженицын верит в Просвещение, и воспринимает его, как воспринимали во все серьезные исторические эпохи, когда слово стоило жизни. Он верит, что одно слово правды весь мир перевесит.
«И где же?» — спросим мы. Вот уже не капля, а целые потоки пролились на наши головы, а что-то перемен не видно. Кому как. Ведь правду надо не только произнести, но и услышать, и вместить. А это уж как Бог даст. Он и сам говорил: «кто имеет уши слышать, да слышит!». (Мф. 11,15). А до тех пор надо говорить, даже и без надежды быть услышанным. Солженицын так и относится к слову.
Или к молчанию, что у него тоже стало формой общения с нами. И мы, уже ничего не слушающие, замечаем, когда он молчит, и думаем, что он хочет этим сказать.
Все неслучайно в его жизни, как, может, и в наших, но мы все как-то теряем по пути, а он сберегает. (И слово это — его). И арест, и смертельная болезнь, и чудесное избавление от смерти, и пребываение на краю опасности, и бесстрашное, как вызов, рождение сыновей, когда нельзя было поручиться ни за один день жизни, и умение жить своей жизнью, хоть в Вермонте, хоть в Подмосковье, не завися «ни от царя, ни от народа» — все это знаки его миссии. А что за ними?
Эпоха классицизма, время устроения государства требует всего человека, его времени, чувств, жизни – человек превращается в материал. Это потом останутся памятники, симметрия, размеченность пространства. А пока все это обустраивается, пока лес рубят – щепки летят.
Человек эпохи классицизма вносит в происходящее, как бы безумно, «огромно, стозевно» оно ни было, вертикаль разума и веры. Потом, когда все устроится, эта вертикаль и организует пространство и жизнь.