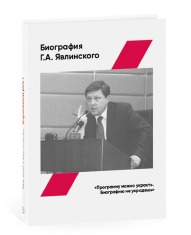Несколько лет назад я пугал им сына-подростка. Когда мы с сыном, гуляя по Переделкину, встречали этого крупного, несколько грузного человека, я неизменно говорил своему отпрыску: «Вот смотри, это Вячеслав Всеволодович Иванов — он знает больше ста языков, а ты один английский не можешь выучить!»
На самом деле в Вячеславе Всеволодовиче ничего страшного нет — даже его энциклопедические знания не давят в разговоре на собеседника. Потому что с каждым он умеет говорить на его языке (и это еще как минимум сотня — помимо тех иностранных, которыми он владеет).
А вот удивляться, беседуя с ним, мне приходилось не раз — например, когда выяснилось, что ВВ имеет подробное представление о размытой логике, которой я когда-то занимался, — между прочим, не самой популярной и общедоступной области математики.
Тем более что Иванов — крупнейший лингвист, филолог, философ наконец, но уж точно не математик.
Последние годы ВВ читает лекции в Америке (Лос-Анджелес) и в России (Москва). Он — ученый с мировым именем и вообще гражданин мира. Недаром Вацлав Гавел приглашал его участвовать в первом, пока что неудавшемся проекте «мирового правительства». (Ведь действительно что-то в этом роде временем затребовано, если уж ООН стала организацией объединенных правительств, а не наций и со своей задачей обеспечения безопасности планеты явно не справляется.)
Ну а поскольку я сам однофамилец Председателя Земного Шара, мы и начали наш разговор под переделкинскими соснами с проблем общемировых:
— Вячеслав Всеволодович, вам не кажется, что в последнее время не только Россия, но и вся современная цивилизация переживает глубокий мировоззренческий кризис?
— Готов согласиться, похоже на кризис. Основная особенность последнего десятилетия, на мой взгляд, в резком уменьшении роли индивидуальности. Лет тридцать назад еще можно было говорить о существовании отдельных крупных философов даже в Германии (после всего, что она испытала) или бесспорно очень крупных поэтов в русской литературе и прозаиков в американской. А сейчас на любой вопрос о значительных явлениях ответ будет растерянный, люди не знают, как некоторые любят говорить, есть ли солисты или остался один хор:
— Очевидно, это касается и политиков?
— Да, но что касается политики, я считаю, это, скорее, нам на благо. Не дай бог, чтобы ко всем несчастьям человечества еще появился новый Наполеон. Сегодня, думаю, даже злодеи — все мелкого калибра.
— Значит, нет общественного ожидания — ни Наполеона, ни пророка, причем ни в одном отечестве…
— Нет ожидания и нет социальной потребности. Многие люди считают: зачем, собственно, гении нужны: Это реакция на эпоху увлечения ницшеанским сверхчеловеком. А другая вещь, которая мне кажется важной, — отсутствие ясной формулировки основных мыслей, необходимых всем. Помню, прямо здесь, в Переделкине, об этом со мной говорил Генрих Бёлль во время своего последнего приезда в Россию: «Надо все это (он имел в виду религиозно-философскую концепцию) суметь сказать на языке, который доступен и понятен современному человеку».
— Но, как я понимаю, такая потребность уже не раз возникала — перед появлением каждой новой, более молодой религии…
— Ну, вообще говоря, нужно как бы второе пришествие. Это такая печальная вещь: человечество не поддается, если вы ему просто что-то рассказываете, даже если это делает Достоевский. Нужно, чтобы человек своей жизнью продемонстрировал, что это серьезно. Ну а дальше начинаются проблемы: а заметим ли мы такого человека, а не погибнет ли Евангелие, если будет написано, и так далее.
— Евангелие общества потребления, до которого мы, задрав штаны, стараемся добежать, — это благая весть о шампуне против перхоти, средстве от запора и усовершенствованной зубочистке. Его основная идея — глобальное навязывание псевдопотребностей, а понимание человека ограничено фрейдизмом, объясняющим низшее через низшее.
— То, что во всем мире происходит, — этот так называемый глобальный капитализм — напоминает самые мрачные предсказания тех, от кого мы отказались:
— Маркса-Энгельса?
— И Ленина, я имею в виду «Империализм как высшая стадия капитализма». Сейчас по довольно достоверной статистике примерно половина всего имущества, денег и других видов богатства, которое есть в мире, принадлежит приблизительно пятистам людям. Все остальное человечество делит половинку, ему доставшуюся. Такого никогда в истории не было. То есть мы буквально вляпались с нашим откатом от одной модели к другой, попали в самую плохую фазу. Это действительно наше невезение.
— Но мы-то пока и до этого кризисного глобального капитализма не добежали, все еще отстреливаемся где-то в свежеперегороженных феодальных владениях.
— Что касается того, что у нас такой бандитский вид экономики: Может быть, это феодализм, но, скорее, такой феодализм кочевников. У кочевников есть одна особенность: они не имеют налоговой системы, берут дань. Это ведь очень характерно для нашего общества, потому что рэкет, в том числе государственный, — это именно дань, а налогов, как известно, никто не платит. То есть мы, конечно, живем в обществе, которое не подчиняется более или менее цивилизованным экономическим нормам, и за это расплачиваемся.
— Как известно, все войны бывают за территорию и за недра. А у России и территория больше всех, и недра самые богатые. Не станет ли основным конфликтом ХХI века перераспределение, с одной стороны, более сильными, а с другой — более голодными странами, этих российских богатств?
— Наша экономика, это всем известно, сейчас строится в основном на разбазаривании недр и на производстве вооружений, которые мы отдаем неизвестно кому и неизвестно, какие от этого будут последствия для нас и для мира. Вот здесь на то, чтобы изменить ситуацию, не нужно гениев. Достаточно здравого смысла.
— При нашей территории и постоянном сокращении численности населения, похоже, у нас остается единственный выход а-ля США до 11 сентября: поощрять приток эмигрантов. Тем более очень много русскоязычного населения живет в бывших советских республиках…
— У нас образовалась колоссальная русская диаспора, это несомненный факт, новое явление, которого раньше не было. И мы должны его всерьез воспринять. Причем молодежь, которая находится в той же Америке, в основном хочет сохранить русский язык. В отличие от своих родителей, которые пытались очень быстро американизироваться. Скажем, в университете, где я читаю лекции, есть специальные курсы русского языка для русских, для тех молодых людей, кто хочет вернуть себе хороший русский язык. Русский — один из десяти главных языков среди двухсот двадцати языков Лос-Анджелеса, которыми я занимаюсь. Кстати, в Лос-Анджелесе больше ста лет живут молокане — русская секта, их всего пять тысяч, но они свой язык сохраняют. И когда их спрашивают: на каком языке говорите? — они отвечают: «Мы по-молокански».
— Вячеслав Всеволодович, не могу удержаться и не спросить: а сколько языков знаете вы? Вот недавно случайно услышал, что в их число входит даже алеутский
— Ну говорю я на небольшом числе языков, а читаю на многих.
— И все-таки, извините за назойливость, каков порядок чисел? Говорят, в вашем активе больше ста языков
— Знаете, в мире шесть тысяч языков. Было. Сейчас это число катастрофически сокращается. Думаю, что имею представление о нескольких десятках подробно, о нескольких сотнях не очень подробно, но все-таки нужно знать несколько тысяч:
— То есть вам еще есть куда расти?
— Есть куда расти.
— А какие языки вы бы посоветовали учить «юноше, обдумывающему житье»?
— Ну если он живет в России — прежде всего русский. И по статистике, и по всем прогнозам, которые я читал, русский остается среди дюжины главных языков человечества на весь век. Кстати, английский утратит свои позиции, поскольку возрастает роль хинди, основного языка Индии. Английский к середине века будет делить третье-четвертое места с испанским. Так что наше повальное увлечение английским немножко скоропалительно. Как и капитализмом. И, заботясь о молодежи, я бы не стал совсем маленьких детей заставлять учить именно английский.
— Если уж заботиться о молодежи, наверное, надо вспомнить, что культуры нет не только без преемственности, но и больше — без прямого наследования (тот же случай, что с английским газоном, который надо подстригать сто лет многим поколениям). Вот лично вам повезло, можно сказать, с самого детства быть юным другом Пастернака, Ахматовой, Надежды Яковлевны Мандельштам: (И с самого рождения — сыном своего отца, Всеволода Иванова.) А есть ли у вас столь же приближенные юные друзья?
— Есть, конечно, студенты, аспиранты, но это не совсем то. Ахматова была всегда окружена молодыми людьми, это была ее принципиальная установка до самого позднего возраста. Пастернак — не в такой степени, но все-таки у него были два-три близких к нему молодых человека, как тот же Андрей Вознесенский, когда был школьником. Я у Пастернака с ним и познакомился, Пастернак сказал: «Вот это Андрюша, который читал на выпускном экзамене мой перевод «Гамлета», и, представьте, получил «отлично». Его больше всего, по-моему, поразило это «отлично». То, что в позднесталинское время могли так оценить чтение перевода Пастернака, действительно удивительный факт. А про себя я не могу сказать, что окружен молодыми.
— Вот около вас нет молодых, рядом с тем же Вознесенским не видно: Что, прервалась связь времен?
— Это действительно очень серьезная проблема: При том, что я не могу пожаловаться — когда читаю лекции, приходит много молодых людей. Но повседневных личных отношений с молодыми нет. Боюсь, вообще сейчас люди обособляются: Эти постоянные конфликты, разные союзы писателей, киношников:
— Кризис индивидуализма при отсутствии ярких индивидуальностей? Если уж вы упомянули о союзах писателей, какой вам видится картина современной русской литературы?
— Меня удивляет, что за примерно пятнадцать лет относительно свободной литературной печати скачка нет. Сравните, скажем, с тем, как все быстро пошло после реформ Александра II. Все-таки принципиально важное развитие русской прозы в те годы было связано с социальным движением. Какое-то воодушевление было. А сейчас: Что это значит? Ведь страна безусловно талантливая. Может быть, одаренные люди не хотят идти в литературу? Или не хотят с нами делиться, а кто-то втайне что-то сочиняет? Я тоже этого не исключаю. Но пока на горизонте не вижу потрясающе интересных авторов.
Что касается смены стилей: Я стараюсь читать современную прозу, и у меня впечатление, что знакомство с западной литературой — с Джойсом или несколько раньше с Прустом — произвело травмирующее впечатление. Многие люди стараются писать, как бы отвечая урок, — мол, выучили, умеем не хуже. А это не нужно — нужно прежде всего осмысление, осознание нашего собственного опыта. И здесь никакой Джойс не поможет. Что касается поэзии, то с ней связаны чисто человеческие проблемы, о которых мы уже говорили. Насчет личности или, может быть, интересов личности. Для того чтобы заинтересовал поэт, как те поэты-романтики, последним из которых был Бродский, должен существовать интерес к индивидуальности.
— Недавно граду и миру стало известно, что вы многие годы, чуть ли не шестьдесят лет, пишете стихи
— Да.
— А Пастернаку, с которым жили по соседству, вы их показывали?
— Я читал ему. Например, одно довольно длинное стихотворение, которое было очень сильно граждански окрашено. Пришел в его кабинет и сообщил, что собираюсь нечто такое опасное прочитать. Он встал и закрыл форточку. И больше никаких других мер предосторожности не принял. Но когда я прочитал, он сказал, что может мне посоветовать не писать слишком в лоб, тогда дурак и не поймет, насколько это, как я утверждаю, опасно. А потом по его приглашению я составил свой сборник, отпечатал его и дал ему почитать. Это было уже позже, ближе ко времени его смерти. Он прочитал и написал мне довольно подробное письмо. Пастернак был критичен, считал, что я слишком подражаю ему раннему и Маяковскому. А Маяковский в это время для него был уже отрицательным понятием. К некоторым позднейшим моим стихам он отнесся хорошо, но к немногим.
— А Ахматова?
— Она была тоже критична по отношению к каким-то моим ранним стихам. А некоторые ей нравились. Одно даже сейчас напечатано в ее «Записных книжках» — по ошибке без упоминания моего имени, но, слава богу, не как ее собственное. Она в свое время попросила меня переписать ей это стихотворение. Ахматова вообще была очень благожелательна. Установка у нее была другая, чем у Пастернака, который, если серьезно к кому-то относился, считал нужным все, что думает критическое, сказать. А Ахматова, мне кажется, немножко себя редактировала.
— Как Пастернак и Ахматова относились к вашим научным занятиям?
— Пастернак даже знал название моей диссертации, чем несказанно удивил моего отца. А после того, как меня выгнали — как раз «за Пастернака» — из профессуры университета, Ахматова, наверное, чтобы меня поддержать, сказала: «Вот вы и стихи пишете, и китайским языком занимаетесь — вас можно на выставке показывать».
— Помимо занятий наукой и литературой у вас, помнится, был опыт хождения во власть — да не в какую-нибудь, а в российскую
— Да, я был народным депутатом.
— Как вы думаете, закономерно, что в России все получилось так, как получилось?
— Многие из нас надеялись, что был возможен другой ход событий. В частности, я очень отрицательно смотрел на то, как осуществился распад СССР. Это абсолютная политическая ошибка Ельцина и тех, кто с ним все делал.
— Понятно, что распад СССР стал побочным следствием ельцинской операции по отстранению Горбачева от власти. Но в то же время всякая империя должна когда-то распасться, а все признаки «падающей империи» (термин Константина Леонтьева) у СССР были. То есть в том, что произошло в 1991-м, была историческая закономерность?
— Трудно сказать. Сейчас вот в Европе большая тоска по Австро-Венгрии. Что вроде Австро-Венгрия была вовсе не такой дурной, говорят не только австрийцы. Боюсь, что и у нас уже появилась ностальгия по СССР.
— Вы были с Сахаровым в одной депутатской группе и до этого хорошо его знали. Его идеи вам были близки? И как сейчас вы к ним относитесь?
— Сахарова я очень близко знал: Вообще считаю, что его идея какого-то сочетания разумного социализма с элементами капиталистической конкуренции неплохая. Другое дело — то, что у нас было, очень далеко от социализма в любом понимании. Думаю, у Сахарова была и очень интересная идея, касавшаяся структуры Советского Союза. Он считал, что надо автономные республики уравнять с союзными. Если бы это в те годы осуществили, не было бы никакой чеченской проблемы.
Однажды, когда в межрегиональной группе в очередной раз обсуждали сахаровский проект, который отредактировали и из него вычеркнули это положение, я сказал, что очень важно вернуться к сахаровской идее структуры СССР. Сахаров, естественно, меня поддержал. И — никто кроме. Вообще, по существу, при жизни он не получил серьезной поддержки межрегиональной группы. Она была крайне разношерстной. Даже до того, как в нее вступил Ельцин, а Ельцин вступил поздно и исключительно по тактическим соображениям. Он всегда думал только о себе.
Проект Конституции Сахарова не был доведен до деталей — он просто не успел. Это одна из главных наших ошибок — мы тогда не представили некоторых фундаментальных документов.
— А как вы относитесь к проповедям Солженицына об особом пути России?
— Солженицына я тоже знаю очень давно. Нас познакомил Лев Копелев, который вместе с ним сидел. Я, кажется, вторым после Твардовского ездил к Солженицыну в Рязань читать «В круге первом» — он боялся выносить рукопись из дома. Потом мы довольно часто виделись в Москве. Вы знаете, он был тогда вполне открыт. Как-то я по какому-то поводу, не согласившись с ним, пожаловался на него Надежде Яковлевне Мандельштам. А она мне говорит: «Нет, ну что вы — человек приезжает из провинции со списком из двенадцати мировых вопросов, которые нужно сегодня решить. Это же замечательно!». И действительно, что-то было очень располагавшее к нему.
А потом: Как-то я написал ему письмо по поводу его «Августа…», первого варианта. Он мне ответил тоже письмом, где была одна такая фраза (я с ним спорил о том, как он описывает интеллигенцию): Звучала она примерно так: может быть, вы и правы, но все-таки для широкого читателя нужно то, что написал я. У него появилось некое «два в уме>, и у меня такое впечатление, что это стало очень быстро нарастать. Из правдоискателя, не очень много знавшего, но уважавшего чужое мнение и желавшего чему-то поучиться, он вдруг превратился в чрезвычайно догматического человека, который не хочет ничего слушать, а нам излагает какие-то прописные истины. Большей частью даже не истины. А порой и ложь.
— Помните фразу Бахчаняна: «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи»?
— Да-да. А что касается особого пути России, о котором твердит Солженицын, этот путь не выбирается сознательно, а является результатом истории. В конце концов, при Сталине и был особый путь — только куда он привел? Мне представляется, что необходима децентрализация во многих областях, реальный, а не искусственный рынок, а остальное приложится. Мы не должны самостоятельно изобретать особый путь — он сам появится.
— А может быть, он уже появился — в виде реставрации того, от чего, казалось бы, мы уже освободились? Ну, например, «Единство» — чем не постмаразматическая КПСС
— У нас уже несколько раз была реставрация, а потом — Хрущев, Горбачев: Великая русская революция, которая началась в 1905 году, еще продолжается. В сопоставлении с французской революцией мы доехали примерно до времени Наполеона III…
— А это значит — экономический и идеологический кризис, военная экспансия, которая призвана от него отвлечь…
— Дальше следуют Парижская коммуна и расстрел рабочих, а потом — буржуазная республика. Буржуазная республика у нас, я надеюсь, будет, но надо как-то миновать этот промежуточный кровавый момент.