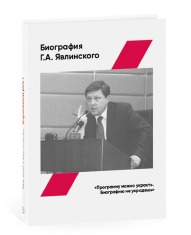В 1982 году я написал Юре Карабчиевскому такое посвящение: «»Каждый пишет, как он слышит». / Что ж хорошего слыхать? / «Как он дышит, так и пишет». / Только нечем нам дышать. // Тем твои и любы строки: / вдох в них вольный и глубокий. // «Не стараться угодить» / для тебя-то не забота. / Раньше надо заработать, / а потом писать и жить. // «Маленькая, но семья». / Без нее к чему «семь Я». // Впрочем, ты совсем не «Колька», / и тебе не нужно столько. // Так! Достоинство плебея, / тяжесть века, взгляд еврея, / слова русского настой, / счастье быть самим собой! // Хорошо бы в дни лихие / нам дожить до мартобря / и дождаться, чтоб тебя / напечатали в России».
Стишок невеселый, другим и не мог получиться. В нем выговорена пронзительная простота тогдашнего нашего общего положения. В том смысле, что, чего мы были лишены — а лишены мы были свободы — того у нас и не было. Разделительная полоса проходила между черным и белым. Но отсюда проистекало утешительно-гармоническое следствие, которое, так или иначе восходя ко всеобъемлющей единственной причине, заключалось в необходимости держаться. Как если бы этой причины не было. Даже не столько противостоять несвободе, сколько выгребать мимо нее. И писать только так, как душа того возжелала бы.
У Юры это получалось с редчайшей естественностью. Юра иначе и не умел. Хотя способность держаться, конечно, не уберегала от приступов отчаяния.
«Нет, грех роптать. Пока здоровы дети; / пока меня уральская тайга / не приласкала писком комариным, / пока не окунула мордой в снег, / сухой и жесткий, как наждачный камень; / пока я о сосну не бьюсь затылком; / пока я жив — и радуюсь погоде, / пока здоров — и от кошмарных снов / еще меня спасает пробужденье; / пока я заморочен и обижен, / пока я раздражителен и сух — /все хорошо, чего и вам желаю. // Я прожил жизнь не хуже, чем пытался, / все выжал из нее и все в ней выжил, / и кончился. И просьба не винить. / И нет меня. Но остаются дети. / Ночь на исходе, утром на работу. / Привычную напялив оболочку, / я вновь прикинусь теплым и живым. / Мой внешний вид вне всяких подозрений, / ни зеркала, ни взгляды сослуживцев. / Но есть глаза, есть два таких зрачка — / в которые вошла без искажений / моя потусторонняя тоска…»
Помню, как, пораженный рукописной «Элегией», предназначенной для «Метрополя», я впервые позвонил автору и, волнуясь, долго что-то говорил. Трагизм положения вещей был невыносим, зато прозрачен. Смириться с ним было невозможно, зато «потусторонняя тоска» стала обиходной и обжитой.
Впоследствии все повернулось, напротив, негаданно и почти непостижно — вообще-то во многих отношениях распрекрасно для людей пишущих — но для человеческой и писательской судьбы Карабчиевского хуже некуда. Все сошлось страшно и настолько впритирку, что на чет-нечет не свалить.
Как известно, нами распоряжается случай, однако же в последнем итоге его распоряжений не остается ничего случайного.«И все ползет само собой, / пока не лопнут нити / и не окажется судьбой — / сплетение событий».
Почему так сложилась участь его сочинений? Меня давно это занимает и мучает. Убежден, что тут кроется нечто в высшей степени показательное и заслуженное: разумеется, не автором, чей неподдельный высокий талант приживется в будущих временах, а нами, нынешними. Мои заметки — попытка усмотреть возможный ответ в некоторых особенностях поэтики Карабчиевского, перпендикулярной к постсоветским вкусам и умонастроениям.
До крушения режима двадцать лет Юра, инженер по образованию, был рабочим-ремонтником, чинил в заводской бригаде сложное медицинское оборудование, выкраивая дни отгулов и ночи для сочинительства. Дружил с Битовым и Владимовым, писал только в стол. После «Метрополя» (1979) вышел из безвестности, начал печататься на Западе. Прославился, когда в Мюнхене (1985) появилась неистовая, несправедливая и замечательная, нынче уже полузабытая книга «Воскресение Маяковского». Благодаря именно ей, в конце 80-х Карабчиевский был в Москве нарасхват.
В 1990-м последовало ее издание «Советским писателем»! Пришло, пришло-таки время для российского мартобря.
В «Дружбе народов» появился роман «Жизнь Александра Зильбера», в «Октябре» вышла повесть «Незабвенный Мишуня». Затем в 1991 году — сборник прозы «Тоска по дому»1. Тем временем Юра побывал в Америке, навестив младшего сына, художника. Провел трудный год в Израиле, куда переехали жена Света и старший сын. Вернулся в Москву навсегда, после того как понял, что больше нигде писать и, значит, жить он не в состоянии.
Книжку стихов, названную «Прощание с друзьями» — все потом толковали, что неспроста? — Юра выпустил за свой счет в количестве 500 экземпляров. Повезло, что тираж был такой крошечный. ( Дальше вы поймете, почему повезло.) Автор подписал книжку к печати. В последний момент его портрет в ней успели вставить в черную рамку.
Летом 1992 года Карабчиевский покончил с собой. «Свобода там, где нет меня, / а там, где я, всегда неволя». Причина, как обычно в подобных случаях, была сугубо личной, внутрисемейной. Мы растерянно столпились над свежевырытой ямой и схоронили Юру. Годом, кажется, позже не стало и Светы, точно так же наглотавшейся таблеток. Был его дом. В одночасье в нем не осталось никого и ничего. Эта боль касалась только близких.
Однако примечательно и, напротив, общезначимо, что вскоре после похорон оставшийся нераспроданным большой тираж «Тоски» был пущен под нож. И голос Карабчиевского перестал быть слышен. Его забыли. А ежели кто вспомнит, то как автора, якобы пригвожденного к исторически-ограниченной выморочной ситуации: от знаменитого неподцензурного альманаха до конца «перестройки».
Так уж у нас заведено. Поэт в России не «больше, чем поэт», а меньше, гораздо меньше. То есть потому и меньше, что больше. Запрос к сочинителю связан со времен Некрасова и Тургенева с «тенденцией». Между прочим, обоих это горько уязвляло, они были несопоставимо крупней и долговечней славы или хулы, доставшейся на их прижизненную долю. Да и сейчас много ли найдется читателей в России, которые дорожат Тургеневым и Некрасовым, думают над ними? Русская публика, что имеет, не хранит. Потерявши, плачет недолго.
Я не собираюсь, разумеется, сопоставлять Карабчиевского с великанами, но и он художник, и он принадлежит русской литературе, и его драгоценный дар недооценен. Жизнь и смерть автора «Тоски по Армении», я уверен, были предопределены стилистически. Цыганка могла бы нагадать скрещение их линий по ладоням его сочинений. Это случается с некоторыми писателями.
В прошлом году несколько десятков человек собрались в Сахаровском музее, чтобы отметить 60-летие Юрия Аркадьевича. Подавляющее большинство пришедших были его близкими друзьями или знакомыми. Мы любили его. Говорили об обаятельной цельности, о необыкновенно напряженной искренности Юры.
Но что это был за писатель?
Помню, как Юра удивлялся повести приятеля, Марка Харитонова, «Два Ивана», живописующей Русь XVI века. Его интриговал профессионализм совершенно чужого и недоступного для него склада: это же надо, какова изобразительная фантазия при описании того, чего автор и во сне не видел.
Сам Юра принадлежал к числу писателей, которые рассказывают — разумеется, свободно преображая материал, — лишь о том, что сами наблюдали или испытали. Как он говаривал, «не об Иване Грозном, но о соседях по лестничной площадке». Все написанное им сделано от первого лица. Это не «прием», поскольку другой эту прозу и не представишь. Всегда мы имеем дело с предельно доверительным высказыванием, «домашним», более или менее автобиографическим.
Оно совершенно таково, каков автор. Юра был тонким человеком, поэтому и оно утонченное. Он был прямым и простым человеком, поэтому и оно бесхитростное. Впрочем, о «простоте» этой, доискивавшейся, не щадя живота своего, до последней сути, поразмыслим ниже. Карабчиевский в поэзии, в эссеистике, ничуть не меньше и в прозе, как принято выражаться, «делился» с нами. То есть делился собою.
Это крайне рискованный способ сочинять, если относиться к нему вполне всерьез. Хватит ли себя и получится ли докопаться до себя с безусловной честностью. Притом, само собой, это должна быть профессиональная литература, чтобы мы не заскучали и узнали цену умелому мастеру. Однако весь фокус в том, что единственное, чем при подобном задушевно-притязательном взгляде на литературу в конце концов обеспечивается художественное качество, это человеческое качество автора. Юра был стопроцентно убежден, что в этом-то и состоит исходная проблема. Хотя, конечно, не хуже других знал, что можно быть великолепным, даже гениальным писателем, а человеком не очень-то доброкачественным. У самого Карабчиевского так не получилось бы. Так что у него все равно не оставалось выхода.
Тут ему приходят на ум признания сэлинджеровского Холдена: «<...> А увлекают меня такие книжки, что как ее дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтобы с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает».
Автор продолжает так: «Это редко бывает, Холден прав, но еще реже бывает, что, если даже случилось такое и ты захотел позвонить писателю, ты услышишь тот самый голос, который хотел услышать. И если ты с этим человеком когда-нибудь встретишься, то еще неизвестно, захочешь ли подружиться. Пока Аполлон не требует поэта, поэт бывает сущим чудовищем. И даже существует такое мнение <...> что чем выше и значительнее творчество, тем дальше в авторе личность творца отстоит от личности человека.
Не дай-то Бог, чтобы все это было так!
<...> Я не знаю, чем искупается жизнь, быть может, ничем, но только не творчеством. Острота чувств, чистота помыслов, доброта, ум и, главное, совесть не могут рождаться лишь в акте творчества и жить лишь в воображаемом мире. Они исходно должны существовать в человеке, до того, как он сел за письменный стол. Так я хочу и так я верю». (Выделено мной. — Л. Б.)
Меня поражает это холденовское «так я хочу» в зрелом отце семейства, это — в советских 70-х годах квартиросъемщиком из Теплого Стана — додумывание подросткового максимализма до утопии целостного существования в жизни и литературе. Карабчиевский знает, что это утопия, что чаемое им наивно, ибо слишком «редко бывает». На деле же все еще чертовски сложней. И у Пушкина поэт, пока его слуха не коснется «божественный глагол», вовсе не «чудовище». Просто: «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Поэт вне творчества слаб, как все смертные. Или, при случае возразил себе Пушкин, врете, сволочи, все же не так, как все, иначе. В любом случае, ситуация содержательна и не сводится к элементарному противоположению, Юрий Аркадьевич и это знает, и готов бы, как обычно, подтрунить над собой, но он абсолютно серьезен. Ибо он «так хочет».
«И если я прочел и полюбил какую-то книгу, что означает — полюбил ее автора, то есть тот его образ, который возник у меня при чтении, то я уверен, что полюбил бы его и в жизни, захотел бы, чтобы он стал моим лучшим другом и чтобы я мог ему позвонить, когда захочу. А если бы я разочаровался после этого, то это бы значило, что я плохо читал».
Наверно, я хорошо читал Карабчиевского. И некоторые другие хорошо его читали. И мы могли позвонить ему, как только пожелаем.
Только то, что бывает крайне редко, воплощает норму. Ведь норма — тень тени, она тень идеала, идеал же тень Единого во многом. Это белый свет, не разложенный на спектр. В идеале все лошади, вороны и тигры — белые. Нормальны лишь альбиносы.
Мы, во всяком случае, жили ненормально, ибо вынуждены были так или иначе обзавестись привычками подлой раздвоенности. Наши лучшие, наиболее достойные писатели все же должны были начисто обходить многое из того, о чем у них же дома шла речь в узком кругу, вполголоса. А это были не какие-то второстепенные подробности современного повседневного существования, напротив, это относилось к его сути. Следовательно, и у любимых писателей мы могли зачерпнуть только дистиллированной, отфильтрованной, мертвой воды. Она помогала срастаться нашим израненным душевным тканям. Но без воды живой мы оставались все же бездыханными. Речь не о политике, не о диссидентстве, но об отравленности самой системы самозапретов на упоминание каких-то общеизвестных реальностей и мнений. Становясь само собой разумеющейся, привычной, эта система сговора между писателями и читателями вела к некрозу словесности.
У Карабчиевского не было особого интереса к собственно политическим темам, никакой целенаправленной «антисоветчины». Но это был свободный человек и писатель, заносивший в повесть или путевые записки с естественной небрежностью, обычно вскользь, потому что это было не самым значительным для него и глубоким, — но это было, это приходило в голову, что ж не сказать? — то, о чем мы толковали на кухнях. Словно бы не замечавший, что «об этом» нельзя. Поэтому Юра был до метропольского «скандала» более неподцензурным и более непечатаемым, чем большинство других. Именно потому, что у него не было ни социального, ни эстетического вызова, ни эзопова языка, ничего такого, что подхватили бы хотя бы в самиздате или тамиздате. Нормальное высказывание, не более того. Обычный альбинос.
Он был прежде всего думающим писателем, не в том смысле, что умным, — это само собой, глупых и не бывает, «глупый писатель» это оксюморон — и не в смысле склонности к глубокомысленным и парадоксальным рассуждениям, а в том смысле, что для него способность к думанию над жизнью, а также и к думанию относительно своего думания, сам этот процесс, собственно, и составлял суть писательства. Остальное прилагалось.
Для автора, больше всего на свете боящегося сфальшивить, продешевить, знать не желающего никаких литературных игр, стыдящегося малейшей стилистиче-ской позы и выкрутасов, но и вымученности, и следов пота, недочетов ремесла, конечно, тоже, — для такого автора прямое высказывание самый что ни есть ответственный и тяжкий труд. Даже работа о Маяковском прежде всего — жесткий расчет с собою, выжигание в себе былой завороженности автором «Про это», впрочем, с новой «энергией заблуждения».
В его прозу с первого же абзаца обязательно входит веселая самоирония, лирическая печаль, а нередко и растроганность, даже несколько наивная восторженность. Например, таковы страницы, посвященные Армении и армянам, особенно знакомству с Грантом Матевосяном. Или уморительно-смешной и трогательный рассказ о деде в «Жизни Александра Зильбера». И в «Мишуне» тоже совмещаются беспощадная точность (таково ведь свойство всякой точности), смех, доброта и почти умиление. Его «бытовая» проза — а какой еще она может быть у такого писателя? — помечена шрамами поэзии.
Что же до собственно поэзии, то она — в нараставшей степени прежде всего в белых поэмах 70-х и в пяти коротких стихотворениях 1984-86 годов, составивших раздел «После времени», — встречно насыщена «прозаичными», часто едкими подробностями реального существования. Это поэзия, задыхавшаяся вместе с поэтом и рвавшаяся в прозу, там находя сиротский приют. Как раз потому, что Карабчиевский остро сознавал «дьявольскую разницу» между поэзией и прозой, в последние годы стихи почти не писались. Их сборник знаменательно завершается такими строками: «Все то, что с поза- / вчерашней ночи, впопыхах, / пересказать пыталась проза — / куда как проще бы в стихах. // Но в давних днях начало цикла / петлей повисло на суку. / За долгий срок рука отвыкла / на рифме обрывать строку. // От верных слов отвыкло ухо. / Отвыкла память от любви. / Глаза влажны, а горло сухо, / и душит ворот, как ни рви. // И как душа еще не ропщет, / а эта страсть уж не по ней. / И что ни выхрипит — а проще / Могла бы в прозе. И верней».
Природа его мучительного дара прямого высказывания, петлей повисшего на суку, была сплошь поэтической и оставалась верна себе в любом роде литературы.
Горло сухо, а глаза влажны!
Все, чем он дорожил и что отстаивал — «поэзия разговора», открытая интонация, прямодушная рефлексия вслух, предполагающая читателей-собеседников, споры с полуслова среди своих, — все продолжилось в поисках «верной» прозы. Это проза поэта, но не в избитом смысле такого обозначения. Не повышенная экспрессия, метафоричность, ритмизованность и т.п. выдают это. А то, что «душит ворот, как ни рви»: предельность личной составляющей. Мы помним, что он считал главным в любой книге «тот образ автора, который возник у меня при чтении». Получалось, что дело решает некая затаенная лирическая подоплека и что прозаики это те же поэты, только охрипшие и обходящиеся без рифм и метров.
Притом Юрий Карабчиевский реалист чистейшей воды. Другого такого в наши времена я не знаю. Без тематической запредельности, без фантастически произвольных фабульных конструкций, без абсурдизма, органического либо наигранного, вообще без малейшего «сюр» и экспериментов, без сотворения собственного языка, без постмодернистических или хотя бы авангардистских поползновений, без эпатажей и клоунады, без сленга, без стеба, без какой-либо стилизации, без сказа, короче, без, без, без…
Но тогда возникает вопрос: почему же так хорош Карабчиевский, так индивидуален и так искусен? В чем несомненная, сразу же ощущаемая современность его стиля, его поэтики, на поверхностный взгляд, казалось бы, непоправимо традиционной: распахнутой, сентиментальной и стесняющейся этого, старомодно опрятной, неигровой.
«И тут я разворачиваю уже свой собственный большой дифирамб, несколько выходящий за рамки вкуса и меры, но уместный, я в этом убежден и сейчас, вполне уместный в разговоре с художником, с человеком, н а п и с а в ш и м к н и г у. За эту реализованную невозможность и за трату, превышающую все запасы, — велика ли за это любая плата? Любая мала, никакой не надо, но грех не поддержать, не сказать похвалы, если есть хоть малейшее к тому основание. Грех утаить, не вернуть хоть частицу тепла и света. И тут, как, впрочем, и всегда в жизни, лучше передать,чем недодать».
Самое общее, уже упомянутое мною и лежащее на поверхности: в стиле Карабчиевского все подчинено личной рефлексии. Каждое наблюдение, впечатление, мысль проверяются и перепроверяются автором. Существо и обаяние этой прозы в авторской интонации.
Очевидны и ее предельная искренность, и нервность, и юмор, и стремление к сдержанности. Отсюда особая растяжка интонации, рождающейся сиюминутно, у нас на виду. Она несколько разговорная, точнее, импровизационная, неизбежно шероховатая. Я видел машинопись последней повести Юры с его правкой от руки. Было поучительно наблюдать, как автор, убирая вялость и многословие, одновременно, тем не менее, добивается сохранения и даже усиления непосредственной пульсации мысли. Ее принципиальной не-ловкости. Это и завораживает. Карабчиевский совсем не «стилист». «Рамки меры и вкуса» ему хорошо известны, но важней правдивость фразы, которая, как утята за уткой, следует за тем, что автору увиделось и подумалось. Не Истина его занимает, не вопрос Пилата волнует, но именно правда, т.е. личная истина.
Я решился бы сказать, что Карабчиевский, того не подозревая, был в этом отношении стихийным бахтинцем. Он менее всего копается в себе, однако повествование его органично включает soliloquium, беседу с собою же. Писателя всецело поглощает предмет рассказа, прежде всего (если не исключительно) люди, о которых он рассказывает. Но никакого предмета для него нет вне личного окоема и высказывания.
Это субъектный реализм.
Вот, по-моему, в самой общей форме ответ о современности реализма Карабчиевского. Современность задана не внутрилитературно, но характеристиками разговаривающего с нами «Я». Она в голосе и тонесовременника. Адресатом может быть лишь другое, читательское «Я» — по диалогической горизонтали, равное автору, так что эстетизм и наставительность заведомо немыслимы.
Мы все товарищи по стране, времени и несчастью. Это требует взаимной приязни и доверчивости. «Давайте поиграем в доброту. / Я вам, вы мне. Хорошенькое дело. / Пока еще летает этот мячик, / все ничего. Но если он сорвется — / тогда хана. О Господи, неужто / никто ни перед кем не виноват?!» («Элегия»)
Карабчиевский касается воспоминаний Б. С. Кузина о Мандельштаме. Каждое слово отзыва применимо к нему самому. «Какая-то поминутная совестливость, почти детская, до наивности, прямота стоит за каждой им написанной фразой, создавая особый внелитературный стиль, вызывая чувства простые и добрые». Кажется, преотличная формула писательского кредо Карабчиевского: «в н е л и -т е р а т у р н ы й с т и л ь».
В пору влюбленности Юры в творчество Гранта Матевосяна он — по правде, довольно неожиданно — пишет нечто сходное и о книге Матевосяна. «В этой книге присутствовали все компоненты высокой прозы: стиль, ритм, точность рисунка, подлинность персонажей; наверно, и композиция была, и сюжет, если, начав читать любую повесть, невозможно было до конца оторваться. Но не в этих категориях хотелось о ней говорить. <...> Ни идеализации, ни стилизации, ни сгущения красок, ни разряжения; жизнь, казалось, не подверглась никакой обработке, мы получали ее из первых рук <...>» (Выделено мною. — Л. Б.) Вот уж чего бы я не сказал о прозе Матевосяна. Казалось бы, Матевосян не Кузин. Но оставим это в стороне. Зато опять точная рефлексия на собственную прозу.
Хотите понять, для чего и как сочинял Карабчиевский, как понимал взаимоотношения с искусством? Тогда спросите, как ему понравились повести незнакомого армянского собрата. «Нравилась ли мне эта книга? Я любил ее, она была мне родной. Тогда в метро, притиснутый в углу, спотыкаясь о собственный неуклюжий портфель, посапывая и улыбаясь украдкой, и украдкой вытирая пальцем глаза, я так и сказал себе: родная книга».
И еще: «Я был счастлив тогда, в Ереване, убедившись в том, что Грант Матевосян так же прекрасен, как его книга…»
Вот вам Карабчиевский.
Но не упустим и другое, столь характерное и в жизни, и на бумаге именно для него.
«Я должен признаться: не люблю памятников. Ни памятников событиям, ни памятников людям. <...> Сам принцип ставить на площади каменную копию определенного человека есть, по-моему, грубое вмешательство в функцию памяти и свойства времени, и библейский закон не творить кумира кажется мне здесь совершенно уместным. Сам по себе выбор имени: кому ставить, кому не ставить — даже в случае предельного единомыслия будет все же принуждением и навязыванием, насилием над свободой оценок и мнений. Памятнику ведь нельзя возразить, он бесспорен и потому — безнравствен <...> скульптура на площади — это антиобраз, она давит чувство и воображение своей безоговорочной определенностью, тяжелой конкретностью, однозначным наличием <...> Не люблю и боюсь». (Выделено мной. — Л. Б.)
А вот Юра пытается объяснить в Ереване новому приятелю Акопу, почему Сароян не армянский писатель, но американский («отечество писателя — его язык» и т. д.) «- Что ж, может быть, — говорит Акоп. — Может быть, у других это так. Сомневаюсь, но может быть. У д р у г и х. У армян — иначе. Где бы ты ни был, кричи: я армянин! Знаешь такой рассказ у Сарояна?
Я не читал такого рассказа и вообще, по секрету сказать, не читал Сарояна (прочел уже потом, по прибытии), но название кажется мне потрясающим. Здорово, говорю я, ничего не скажешь, здорово, ладно, кто его знает, возможно, ты прав…
И тут же, примерив на свой аршин, дважды наполнив это название иным содержанием, я испытываю острую зависть к армянам. Где бы ты ни был, кричи: я армянин! Прекрасно. гордо, мужественно, трогательно. Где бы ты ни был, кричи: я русский! Глупо и — подозрительно. Русский так русский, чего орать-то. Где бы ты ни был, кричи: я еврей! Смешно, пародийно, анекдотично. Да и кто это станет кричать, какой идиот…
Ничего мы не выяснили, но остались друзьями».
Не только Акоп, но и я, и каждый, кому доводилось пытаться переубедить в чем-либо Карабчиевского, знают эту его манеру спорить. Слышу особую Юрину интонацию удивления и уважения к инаковой точке зрения, ничуть не принуждающей его отказаться от своего взгляда, но заставляющей увлекаться уже самой возможностью совсем иного и по-своему тоже правдивого взгляда. Вижу, как мой друг улыбается, покачивает головой, радуется тому, что «безоговорочная определенность, тяжелая конкретность, однозначное наличие» сдвигаются и высвобождают место для встречи разных правд. Так легче думается ему самому, так лучше дышится его собственной правде.
Отсюда стилистика его писательского высказывания, не завершающего авторитарно и безоговорочно мир и людей, оставляющего нас под занавес всякой книги со смешанным впечатлением: и неколебимого основания авторского мироощущения, и загадочности этого же основания, с неустранимым привкусом метафизической тоски, может быть, благой, возвышающей, а может быть, просто обычной тоски. «Кто знает, кто знает? — думаю я. — Да никто не знает! Самый умный и самый знающий — как раз и не знает. Мы живем в этом мире, не зная самого главного, и ведь вот молодцы какие — не теряем духа, живем!..» В финале «Мишуни» после прочувствованных и благодарных воспоминаний о дядюшке — поразительно неожиданный рассказ «о последнем ж и в о м воспоминании» о нем, явившемся в обличье допрашивающего кагэбэшника. «<...> Такого ожившего своего дядьки я со дня его смерти не видел. Тут было так, что любая деталь не опровергала, а дополняла: и рост, и жесты, и вот он заговорил — голос и способ произнесения <...> Это был точный дядя Мишуня, в ы л и т ы й, как он сам бы сказал. Но, конечно же, поумневший, обученный, которому раз навсегда объяснили, как надо и как не надо. А взамен отняли всю игру, всю необязательность и никчемность, и от этого щеки его стали серыми, а губы сухими и жесткими… <...> Наконец, я остановился, схватил себя за руку, огляделся и подумал оторопело: ну и ну! Как же и жить после этого? Не-ет, чур меня, сказал я себе, чур меня, какое там сходство, это так, с перепугу мне показалось. Если б живой, подлинный дядя Мишуня вот такое долгое время сохранял эту важность, я бы счел, что он окаменел, что он умер. В нем, даже в самом неподвижном, даже в самом надутом, в нем всегда внутри бушевал огонь, и какая-то то ли еврейская, то ли просто дурацкая искра поминутно прошивала его насквозь. Другой, другой!.. <...> Я уже был не здесь, далеко, со своим настоящим дядей Мишуней, обнимал его и просил прощенья у его небезгрешной, но все же невинной тени».
Повесть эта — своего рода «тоска по Мишуне», поскольку «необязательный и никчемный» персонаж (между прочим, колоритный на совершенно советский эпохальный лад) не тождествен себе. В его натуре есть некая «игра» свойств, он незабвенен и очеловечен «искрой», хотя «искра» не что иное, как его жовиальная никчемность. Он не поддается, как и всякий вполне живой человек, завершающему стороннему полаганию. Последний вздох и последняя шуточка — за ним, а не за писателем. И Мишуня истаивает, как всякая конкретная правда отдельного существования, в бесконечности.
По той же причине весь том прозы настойчиво назван «тоска по дому». А описание армянской поездки лишь материализует «тоску по Армении». Наверно, можно бы ничего не пояснять, но автор часто сам нуждается в том, чтобы что-то пояснить и додумать, и его слова вдруг оказываются более чем уместными и нетривиальными, потому что они томительно вызревали в читателе, и вот с облегчением мы слышим именно то, к чему пробирались вместе с автором.
«А ее ведь и нет, Армении, вот в чем дело. Нет Армении, как нет и России. Есть любовь к Армении и тоска по Армении, как есть любовь и тоска по России. А дома и улицы и даже леса и горы — это только ориентиры, точки привязки. Любовь к родине и тоска по родине — это и есть сама родина, не предметы, на которые направлены чувства, а сами чувства — любовь и тоска. Абсолютно прав был Грант Матевосян: и то не Армения, и это не Армения, но любовь самого Матевосяна к Армении и тоска по ней — это и есть Армения, и она более реальна, чем дома и леса, потому что она неизменна и вечна.
Конечно, мое отношение иное. Нельзя любить чужую страну как свою. Но, скажу я, нельзя любить и свою как чужую. А нуждаемся мы и в той и в другой любви, и еще неизвестно, какая для нас важней. <...> Потребность любить другой народ так же естественна в нас, как потребность любить другого человека».
Теперь решите: не был ли и на самом деле завышен внушительный тираж «Тоски по дому»? Разве не предусмотрительно и не практично поступили издатели, его уничтожившие? Попробуйте-ка спустя семь лет после гибели писателя купить или хотя бы взять у знакомых почитать его творения. Черта с два. И все правильно, все нормально. Свойства ума и стиля, мною не доказанные, не проведенные через обстоятельный анализ его литературных текстов, всего только некоторые решающие свойства и только бегло обозначенные — а справедливо ли они обозначены, рассудите сами, сверив со своими впечатлениями, если все-таки раздобудете книги Карабчиевского, — каким, спрашивается, образом эта страстность и эта свойскость, эта правдивость самоизъявления и наблюдения, эта простота и это душевное изящество, эти смех и печаль, равно прирожденные человеческой жизни, — как все это могло бы прийтись к нашему времени, заплутавшему в истории?
Толпе такие вещи всегда ни к чему. Любая нынешняя светски-литературная тусовка тем паче отвернется, более или менее вежливо. А доморощенные постмодернисты еще и втихую состроят гримасу. И маркетинг вкупе с мониторингом подтвердят издателям сложившийся утренний курс.
Все нормально.
Этим бы и закончить.
Но его нет, перечитывание разбередило память. И напоследок хочется сделать еще несколько выписок, чтобы поставить последнюю точку в более подходящем месте.
«- Да, ты прав, — говорит мне Володя, мой брат, полурусский-полуеврей, женатый на армянке и живущий в Ереване. — Ты прав, это страна замечательная. Но сколько я здесь живу, ну не с первого дня, с первого месяца, одна у меня мечта: уехать. Куда? Куда угодно, в любую дыру — но только в Россию!»
А назавтра, после рассуждений брата Володи об уникальности Армении: «Я пользуюсь случаем, чтобы поймать его на слове. — Значит, все же нравится тебе Армения? — Что значит нравится, — говорит он, — чудак! Если бы я отсюда уехал, я бы каждый отпуск прводил в Ереване и весь год ждал бы этого отпуска. У меня здесь не только привычка, у меня здесь — друзья… Но вот я иду по улице и вдруг слышу чистую русскую речь — и весь холодею, мне хочется кинуться к этому типу на шею и облить слезами его русский пиджак.
Ну, пиджак-то окажется точно не русским…
Но это я болтаю так, по инерции, а сам думаю: вот оно как! А как же, если насовсем, безвозвратно? Разве только в этом «безвозвратно» и выход? В о з -м о ж н о с т ь делает жизнь невозможной, а так — жил бы себе и жил… Э т о з д е с ь, а там — все наоборот. Там, я думаю, именно возможность возврата была бы отдушиной и лазейкой, мог бы жить хоть двадцать лет, дыша в эту дырочку…
<...> — Ладно, — говорю я, — что тут поделать, наверно, такие мы все обреченные. Нам надо жить у себя дома, уж какой он ни есть, этот дом. Давай, меняйся, возвращайся домой, а сюда будешь ездить в гости, меня прихватывать…«
Карабчиевский впоследствии испытал и то и другое. Он знал о возможности прожить другую жизнь в чужой стране, и это делало невозможной жизнь в России. Он узнал, что жизнь «там» не становилась невозможной, действительно лишь благодаря всегдашней мысли о возможности возврата. Но он испытал и третье: возможность уехать снова, и уже окончательно, сделала жизнь писателя нестерпимой.
Дырочки, чтобы дышать, ему не оставили.
И он задохнулся.
1 Издание книжной редакции советско-британского совместного предприятия СЛОВО/SLOVO. М., 1971.